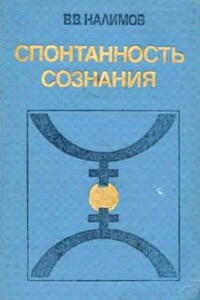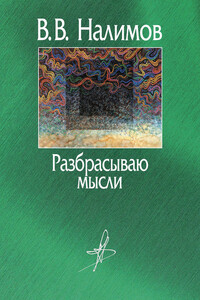Канатоходец | страница 54
Жизнь в купеческом доме была суровой — строго регламентированной православной традицией — и казалась почти аскетичной. Принятие пищи было ритуализировано: еда начиналась и заканчивалась совместной молитвой. Посуда была самая простая, ложки деревянные. Пища также простая, но добротная. Всегда без вина и водки. Раскладывал пищу глава семьи — дедушка. Однажды у него сломалась ложка. У нас, детей, это вызвало громкий смех, за что нам серьезно досталось. Но мы не могли осознать своей вины, ведь действительно было смешно, и что же плохого в смехе?
Одевались в будничные дни просто, лишь «кобеднишная» одежда должна была свидетельствовать о положении в обществе. Мама рассказывала, что ее отец много ездил на пароходах по Волге и ее притокам (он был еще и сотрудником страхового общества «Россия»), но всегда только в третьем классе, чтобы непосредственно от народа получать сведения об экономическом состоянии страны.
Отец мой никогда не мог прожить в доме Тотубалиных более 2–3 дней. Проблемы и трагедии этого дома ему были непонятны. Все было чужим. В этом доме, скажем, как ужасное унижение был воспринят отказ какой-то бедной сельской учительницы вступить в брак с моим дядей — младшим Тотубалиным, который тогда уже стал совладельцем фирмы. Из рассказов родителей я знаю также, что крайне болезненно был воспринят брак моей матери. Муж — бедный студент, как это возможно? Ей было отказано в материальной поддержке. Позднее, правда, дедушка приезжал к нам в Нижний Новгород и смягчился, увидев вполне благопристойную семью: мать — признанный врач, отец — преподаватель привилегированного реального училища. Мать получила в подарок золотые часы и другие украшения, а на мое имя был открыт небольшой счет в банке.
Торговый дом «Тотубалин и сын» — это была фирма с широко развернутой агентурой. Со всех концов России шли сообщения об урожаях зерновых культур и о ценах на муку. Удивительно, но эта информационная активность продолжалась и после революции, хотя стала бессмысленной, к тому же и неоплачиваемой. Но люди любили и ценили свою деятельность, гордились ею, верили в ее значимость. Не могли они смириться с тем, что все рухнуло. А сводки об урожаях дедушка в письмах еще долго посылал мне. Для моего деда революция, конечно, была катастрофой. Растоптано было его дело, которому он отдавал всего себя. Важен был не просто капитал как таковой, а дело, которое он любил. Крах он воспринимал все же спокойно, без озлобления. В его позднейших письмах звучал такой мотив: это возмездие за неправедность купеческой деятельности. В российском народе всегда жила идея