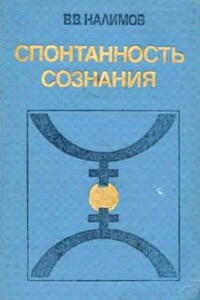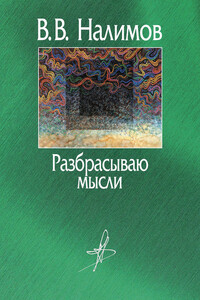Канатоходец | страница 17
Сказанное выше мне хочется дополнить и своими наблюдениями. Мальчиком я много наблюдал отца за работой. Овдовев в начале 20-х годов, он выезжал в экспедиции со всеми детьми, со всем домашним скарбом. Останавливались чаще всего в какой-нибудь пустующей летом сельской школе. И тут как-то само собой отец преображался. Вся интеллигентность куда-то пропадала. Менялось выражение лица, прическа, как-то иначе повисали брюки, превращаясь в штаны. По селу шел такой блаженный мужичок, с местным говором. Вот он садится недалеко от плотника, следит за его работой, что-то говорит — так, ни к кому не обращаясь. Замолкает. Опять что-то говорит. Ни о чем не расспрашивает, но плотник вдруг бросает топор и вступает в беседу, долгую, непринужденную. Отец ничего не записывает вплоть до возвращения в Москву. Здесь, в деревне, он просто живет другой, естественной для него жизнью, из которой он вышел, когда пошел учиться.
Василий Петрович умел удивительно, завораживающе рассказывать. Он любил сказки. Они особенно пригодились ему в дни тюремной жизни, в длинные вечера среди сокамерников. Эти сказки остались незаписанными: здесь сохранялась (может быть, и неосознанно) традиция сакрального эзотеризма — всегда существовало знание, передаваемое только изустно-доверительно.
Но вернемся к рецензии. В ней мы читаем и такое высказывание:
Быть может, при систематизации и обработке всего собранного В.П. Налимовым материала выяснится, что в настоящее время мы имеем дело лишь с осколками прежних верований, уже утратившими внутреннюю связь и сохранившимися лишь постольку, поскольку зыряне пользуются ими для утилитарных целей.
И в какой-то степени это, наверное, действительно было так. Несмотря на языковой барьер, происходило все же изживание прошлого миропонимания под воздействием русской культуры[26]. Василий Петрович пытался в какой-то степени реконструировать утраченную внутреннюю связь верований. В беседах со мной он любил подчеркивать близость зырянского народного сознания к природе, неотлученность от нее, существование в ней. Это находит свое выражение прежде всего в том, что величайшим грехом считалось загрязнение природы, особенно загрязнение воды — лесных ручьев и рек. Целительство связывалось с силами природы. Согласно поверьям, зырянский охотник, проведший осенью два месяца в лесном уединении (охотясь за белками), обретал особую жизненную силу. Вернувшись в деревню, он должен был передать эту силу больной женщине, уединившись с нею в бане. Примечательно отношение к женщине у пермяков, которые вместе с зырянами составляют один народ — коми