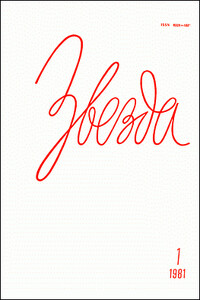Вещие сны тихого психа | страница 52
Как велел доктор Герштейн, думаю о душе. Трепанация действительно опасная штука. Лучше перетерпеть, но сохранить душу. После обследования, как ни странно, мозги стали работать лучше. Появляются мысли. Например, думаю, что, помимо материальной сущности, живых объектов и неживых, в природе имеются как бы матрицы, формы, структуры, парящие нигде, в некоем неуловимом, энном измерении. Они — как ловушки, ждут своей добычи. И как только возникает материя той или иной сущности, так тотчас эти формы проявляются и втягивают в себя материю. Возможно, это раздельное существование формы и материи длится неизмеримо краткий миг, ибо, в принципе, материя и форма (структура) не могут существовать отдельно друг от друга. Иначе следовало бы признать существование всемирного ДУХА, БОГА, ТВОРЦА МАТЕРИИ, а это — на мой нынешний взгляд абсурд. И все же, откуда эта ВСЕМИРНАЯ гипотеза о первичности ДУХА и вторичности МАТЕРИИ?! Все религии стоят на этом, а религии это не какие-то абстракции, это сконденсированная философия народов — от нуля до нынешнего состояния…
А вот и доктор Герштейн, легок на помине.
— Послушайте, — говорит он, — как врач с сорокалетним стажем, изучивший не одну тысячу пациентов, хочу предложить вам действительно реальный шанс…
Он делает многозначительную паузу, не спуская с меня своих грустных мудрых глаз. Я весь поджимаюсь, ожидая продолжения, от которого заранее не жду ничего хорошего.
— Шанс выбраться отсюда… Как ваша фамилия? — неожиданно спрашивает он. — Извините, забыл.
— Бродягин, — говорю я растерянно. — Марэн Флавиевич…
— Да, да, помню, — ворчливо перебивает доктор. — Это надо для документов…
— Каких документов? — в страхе спрашиваю я. И кричу: — Каких еще документов?!
Доктор смотрит на меня как-то тягуче, скучно. Сейчас он кажется мне малость чокнутым. Что он затеял?
— Пока не приедет жена, никаких документов, никаких опытов! — кричу я. И прячусь под одеяло…
— Значит, Бродягин, — рассеянно повторяет доктор, — так и запишем…
Бродягин, разумеется, от слова «бродяга», и тут все ясно. Но вот откуда взялся «Флавий» — загадка. Думаю, у отца были серьезные основания для беспокойства в годы его молодости, особенно в тридцатые годы, да и позднее, в сороковые, пятидесятые… Какой черт дернул моего служивого деда назвать своего отпрыска Флавием?! Ведь Флавий — это не только один из сорока мучеников, подвергшихся жесточайшим пыткам за веру в 320 году в Севастии Армянской; и не только старое русское календарное имя (в честь мученичества); и не только древнеиталийский род, к которому принадлежали известные римские императоры Веспасиан, Тит и Домициан; но это еще и знаменитый ЕВРЕЙСКИЙ историк ИОСИФ ФЛАВИЙ! Тот самый Иосиф Флавий, что оставил миру выдающиеся сочинения — «Еврейские древности» и «Иудейская война». Вот что скрывалось под красивым именем ФЛАВИЙ! И конечно, имя Флавий прежде всего ассоциировалось у лиц, нацеленных на разоблачение, на вскрытие подноготной своих коллег по научной или, тем более, политической деятельности, именно с последним Флавием, то есть Иосифом. И отец загремел в пятьдесят втором году с работы из Института математики АН СССР как замаскировавшийся космополит, преклоняющийся перед буржуазным Западом. И мы, отец, мама и я, «поехали» в Сибирь, на «перевоспитание» (термин китайский, но суть — та же). Спасибо ректору Томского политехнического института профессору Воробьеву: принял, дал работу и кров, поддержал и морально — именно в Томске отец защитил столь долго мурыжившуюся в Москве кандидатскую диссертацию, получил кафедру, потом отдельную квартиру, и мы зажили по-человечески. При Хрущеве вернулись в Москву, отца восстановили на работе, дали квартиру, «хрущевку», но… унижения и трудности подломили отца, он стал пить, пропускал лекции и семинары, забросил занятия наукой и в конце концов погиб, попав под троллейбус. Мама ненадолго пережила его: потрясения не прошли даром, и сердце ее не выдержало, я похоронил ее, когда ей не было еще и шестидесяти…