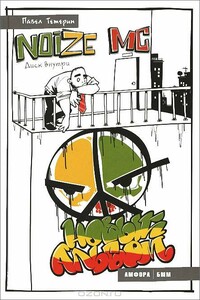Рифы далеких звезд | страница 93
Учитель вспоминал эту притчу, чтобы слегка подбодрить себя, и, хотя не считал себя ничьим спасителем, радовался тому, что многим, насколько хватило сил, протягивал руку и выводил на дорогу…
Всю жизнь Христофор Михалушев чувствовал себя ответственным за своих учеников. Когда кто-нибудь из них, став взрослым, совершал добрые поступки, он молча гордился им, уверенный, что чем-то, пусть самым малым, помог духовному очищению человека. И наоборот: если пороки завладевали душой, которую учитель в свое время пытался вылепить из податливой, казалось бы, глины, он бессонными ночами думал об этом питомце и страдал за него, хотя тот при встрече с бывшим своим учителем мог даже не поздороваться. До самой старости не мог он стряхнуть с себя эти тревоги. Для него эти уже седеющие люди, преуспевшие или не преуспевшие в жизни, были членами одной большой семьи, и школа была их родным домом, они оставались для него все теми же малыми детьми, которые бежали в класс с потрепанными учебниками и тетрадками под мышкой, а он — молодой, веселый встречал их на пороге, под переливы звонка, радуясь их гомону…
Христофор Михалушев мог воскресить их всех в своей памяти такими, какими они были в детстве, увидеть их обросшие шеи или наголо остриженные затылки, где синеют следы химического карандаша, он вспоминал случаи, которые радовали его или глубоко огорчали… Мысли об этих людях, что проходили чередой через его сердце, а потом удалялись — одни с невысказанными словами благодарности, другие равнодушно или со вздохом облегчения, — не давали ему покоя, порой вызывали обиду, и тогда он говорил себе, что было бы разумнее по примеру многих сосредоточиться на собственной жизни. Мало ли забот и тревог выпадает на долю каждого, к чему взваливать на плечи еще и чужую ношу? Он пробовал поступать как все, но понимал, что не способен на это. В такие минуты душа его пустела, как покинутый дом: в одном углу валяются старые башмаки, на вешалке повисла выгоревшая рубаха, школьный звонок звучит глухо, как из-под земли, а тех, кого Христофор Михалушев когда-то любил, за кого тревожился, страдал, — их больше нет… Уловив звук подпрыгивающего, сорвавшегося сверху камешка, он вслушивался в надежде, что кто-то идет к нему, но тут же сознавал, что это в собственной его душе упал сухой ком земли, стронутый с места пробежавшим сусликом; голая, как сожженная летним зноем равнина, душа молчала, и пустынное это безмолвие пугало его. Тогда он открывал запруду и слушал, как мчится поток воспоминаний, вспенивая гребешки волн, унося с собой щепки и оброненные лепестки черешни; слушал веселое журчанье воды в промоинах — и улыбался, ощутив под ногами омоложенную землю, вернувшись как блудный сын к родному очагу, к ветерку, ласково щекочущему ноздри, к боли в груди, слева, где находится то, что беззащитней всего на свете, — сердце человеческое…