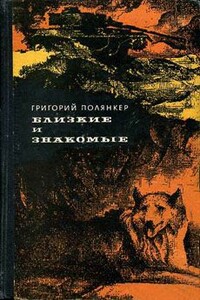Рифы далеких звезд | страница 91
— Я человек темный, учитель, не умею говорить мудрено, как ты, но одно скажу тебе: не все ли едино, когда срубишь дерево, если на то есть приказ? Весной ли, осенью, — а лежать ему у тебя под ногами…
— И все-таки — другое дело… Облетевшее дерево как состарившийся человек: можно его пожалеть, а можно, если сердце у тебя злое, сказать ему: «Прощай, ты уже отжил свое, пора…» Но лучше всего, чтобы рухнуло оно не от топора, а от грозы или молнии. Так судила природа, и в этом самая большая мудрость.
— Человек и то не может оценить доброту своего ближнего, так неужто дерево поймет ее? — Лесной Царь с насмешкой взглянул на Михалушева. — Кабы дерево много понимало, оно не стояло бы безропотно, когда с него срывают плоды или подступают с топором… Да чего нам философию разводить? — Он встал, поправил очки на носу. — Я считаю так: каждый должен заниматься своим делом и решать по своему разумению, сколько хватит ума. Нынче мне платят за рубку деревьев — я буду рубить. Завтра мне скажут: «Сажай на то самое место саженцы!» — и я буду сажать. Вот как я это дело понимаю. А ты сиди себе и рассуждай на здоровье. Вам, старикам учителям, пенсионерам, чего еще и делать, кроме как умничать? Больше ничего, почитай, и не остается…
Он затянул ремешки своих резиновых сандалий, вскинул карабин на плечо и не прощаясь — он не любил, когда его поучали, — свернул на тропинку, бегущую вдоль реки.
Христофор Михалушев не пошел проводить его.
Рубка длилась еще два дня, оголили весь нижний край села в низине возле Огосты и остановились только у самого шоссе. Вероятно, кто-то из начальников Лесного Царя распорядился начать посадки молодых деревьев вдоль шоссе на Петрохан (был призыв — озеленять дороги), и лесник повел свою дружину туда.
Прикатил грузовик забирать срубленные деревья. Сваленные одно на другое, они напоминали огромные снежные сугробы, быстро оседавшие под апрельским солнцем.
Рабочие побросали в кузов стволы, жмурясь на облака высохших цветов, которые били их по лицу, водитель увозил один сугроб и возвращался за следующим, и позади его тарахтевшей машины оставалась голая земля, только кое-где еще цвели пощаженные колесами тюльпаны, ландыши, гиацинты и нарциссы.
Христофор Михалушев смотрел, как село оголяется и немеет, лишившись шелеста листвы и птичьих песен, и ему казалось, что перед ним лежит как на ладони не этот знакомый до боли уголок, а собственная его душа, по которой прошлись люди с топорами и засыпали ее щепками срубленных деревьев — тонкими, как бритва, щепками, прикосновение которых рождало острую боль…