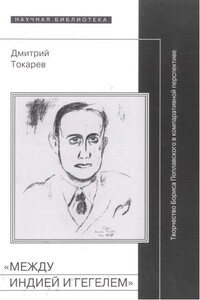ГУЛАГа, и она выбирает писать на таком языке, как Пауль Целан выбирает писать на немецком языке
после Аушвица. И если в случае с Целаном этот контраст разительней: все-таки он мог выбирать из шести известных ему языков и выбрал тот, на котором убивали его семью, то в случае Ольги Седаковой этот контраст опять уведен в тождество. Она пишет на своем языке, на языке детства, на языке отца и матери, но тем сильнее звучит то требование, которое остается скрыто у Целана за драматичностью судьбы. Писать на своем языке
после, а не так, как если бы ничего не было. И если с этой точки зрения уже нам присмотреться к Целану, к его биографии, к его отказу натурализовать свою травму принятием израильского гражданства, то можно увидеть, что поэт в данном случае сознательно выбирает язык, который для него абсолютно «последний», абсолютно невозможный, абсолютно изничтоженный и абсолютно нищий. На этом языке убиты его отец и мать. После такого языка не может быть ни идиша, ни иврита – языков матери и отца. Точно так же и Ольга Седакова пишет на русском языке, как на языке убитых, то есть на языке «последнем», на «крайнем» языке, на том языке, на котором убивают и который вследствие этого сам стал совершенно ничтожен, на языке, где убили бы и ее. И именно на этом последнем языке, после которого все остальные языки «не работают», нужно делать Милость. Свершать Дело Доброе, творить Добро или творить Небо. Что в данном случае абсолютно означает творить Форму, творить Поэзию, творить Красоту…
В этом отношении можно сказать, что Ольга Седакова – один из самых красивых поэтов на русском языке и, безусловно, откровенно политических. Это дело доброе воскрешает жизнь умерших – не в том смысле, что представляет их живыми, а в том, что та жизнь, которая в них после того, что произошло, не может подняться, у нее поднимается, и они после всего, что случилось, стоят вместе с нами и вместе с нею, и тогда снова все вместе и живые, то есть те, кто не умер, и мертвые, те, кто не выжил. Такое единство – вопрос политический.
Найти смысл там же, где его не было, сдвинуть фокус, расширив взгляд. Заплатить ту смысловую цену, которой просит от нас боль, и перекрыть ее. Найти справедливость неумолчного вопроса боли как новую надежду новой души. Вот этический врачебный жест. Вот, по сути, та форма, которой на пороге Первой мировой войны еще только требует Толстой и чьему требованию в чистом виде отвечает Ольга Седакова – поэт после Аушвица и ГУЛАГа.