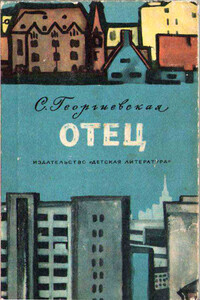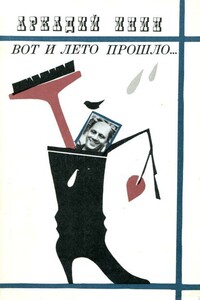Светлые города (Лирическая повесть) | страница 58
Петр Ильич искал в себе с яростью хоть тени какой-нибудь нежности, какого-нибудь ответа ей.
Их не было.
— Полно, Зина!.. Перестаньте, дружок. И как же вы меня огорчаете…
Она заплакала еще сильней.
К его мокрой сорочке прильнули ее дрожащие губы.
Зажмурившись, в полном отчаянии, он обнял ее за плечи.
— Девочка, милая… Зина, дружок!
На слово «дружок» она ответила длинным всхлипыванием, будто он подстегнул отчаяние этой женщины, жмущейся к нему, как ребенок.
Зина принялась осыпать поцелуями его руки. Жадно целовала она сорочку Петра Ильича, не в силах опомниться, отодвигая раскаяние. Один раз в жизни. Больше это не повторится. Так пусть. Пусть. Пусть.
Он смолк. В ответ он принялся целовать ее руки — нежно, как только мог и умел, ужасаясь тому, что делает. Руки. Руку с кольцом, суховатую, хорошо знакомую.
— Не надо, — повторял он бессмысленно. — Прошу вас… Ну, ради меня!
Она встала, обтерла лицо полотенцем, ушла куда-то в темную глубину комнаты.
Переулок, куда выходило окно ее номера, был узким и кривым. Комната была вся переполнена темнотой. Едва различимой стала Зинина дрожащая спина. Она жалась лбом к стенке, раскинув руки…
Он встал. Он принялся медленно и молча ходить вместе с ней по комнате, обнявшись, как ходят на переменках в школе товарищи.
Не было слов. Только одно-единственное, большое и очень короткое, могло бы утешить ее, снять с нее унизительную горечь неожиданного признания.
Но этого слова он ей сказать не мог. Лгать — трудно. Легче быть правдивым и честным. Вот он и был очень, очень правдивым. И очень честным.
«Лги! Лги! Лги!
Не могу».
Они ходили по комнате. И чем грустнее он был, и чем нежнее он был, и чем спокойнее он старался быть, тем отчаяннее блестели в темноте ее глаза, еще мокрые от недавно пролитых слез.
Ее лицо то исчезало, когда они поворачивались к окну спинами, то становилось видным в полосах последнего света, — женственное, глубоко серьезное, ставшее мягким, почти красивым. Чем ближе они подходили к окну, тем отчетливей становилось видно это второе ее лицо. Мгновенно, как в озарении, вставало оно, с разбухшими от плача губами, потолстевшим носом и воспаленными веками, заплаканное, преображенное светом искреннего страдания.
«Не глядеть! Не видеть!» — приказывал себе Петр Ильич из последних, из самых последних сил.
И быстро повертывал ее к двери.
Он не смел, не решался из деликатности повернуть выключатель, чтобы прогнать наваждение.
Зажмуриться. Уйти от себя. От мыслей. Тоски.