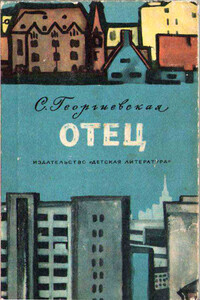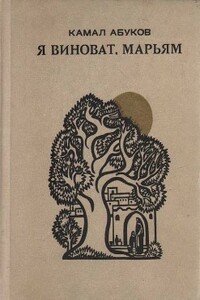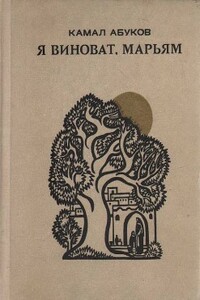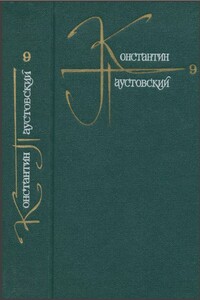Светлые города (Лирическая повесть) | страница 33
• Глава шестая •
Одно и то же обстоятельство может нам показаться непоправимым, безвыходно горьким или всего лишь досадной заминкой, — в зависимости от того, в каком мы находимся состоянии духа.
Она была здесь, — с ее смехом, тяжелым шагом больших, мальчишеских ног, хрипловатым голосом.
На стульях и креслах валялась ее пляжная сумка, косынка, чулки… Ну и неряха!
Она — рядом. Они обедают вместе. Ночью он слышит через двери ее дыхание.
Впереди много дней, переполненных солнцем, Викой, Таллином. И бездельем, к которому он не привык, потому что, ежели отдыхал в санатории, то тяжко трудился, был занят «делом» режима и отдыха.
Вика, солнце и Таллин помогли Петру Ильичу не слишком сильно расстраиваться из-за неудавшегося разговора с Гроттэ.
Петру Ильичу хотелось покоя. И он утешал себя: «Все образуется. Впереди — еще много дней».
Проснувшись как-то в восьмом часу, он позвал:
— Вика!
Она не откликнулась.
— Вика! — повторил Петр Ильич.
В комнате рядом не было слышно ее дыхания. Удрала… Пошла купаться.
Как он станет жить, когда проснется однажды утром после отъезда Вики?
И, подсмеиваясь над собой, Петр Ильич поехал разыскивать дочь туда, где они обычно купались: в Пирита.
Вскочил на ходу в автобус, сел у распахнутого окна… Солнце било наотмашь в глаза Петру Ильичу. Он забыл прихватить очки. Зажмурился, наклонил голову, прикрыл глаза ладонью. Солнце поплыло в закрытые веки колеблющимся, теплым, багровым полем.
Он совсем не спал эту ночь. Глаз не сомкнул.
И вдруг укололо воспоминание: «розы… звезды… вдова!..» Что он болтал? Какую нес чепуху?.. Что на него напало?
«Друг мой Аркадий, не говори красиво». Почему он забыл об этом? А?!.. Почему?
И вдруг потянулась тундра… Юрты… Стойбище… На снегу — собака. Она вытянула рыжие лапы, положила на лапы острую морду. Задумалась о чем-то своем, собачьем. Небо не кажется синим, нет. Оно насквозь прожжено солнцем — большое, белое… Тысячи белых продолговатых солнц прячутся под снежными наледями.
Он, Петр Ильич, шагает по снегу, в унтах, без шапки. Ему лет двадцать. Оказывается, здесь он родился и вырос. Или вот что: приехал сюда два года назад, чтоб навсегда поселиться здесь.
Уйдя от стойбища, он садится на камень.
И вдруг рука в голубой варежке ложится ему на плечо.
Волна горячей и вместе поэтической детской радости, какая бывает только во сне, охватывает Петра Ильича.
— Не сердись на них, — говорит чей-то тихий голос. — Ты не можешь, как они, добывать мясо, но ведь они родились здесь. Зато нет у них такого бинокля, как у тебя. Нету! Нет.