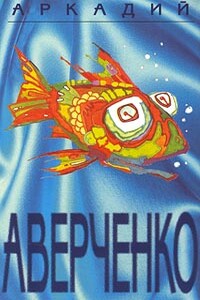Книга счастья, Новый русский водевиль | страница 95
Жизнь такая короткая, поэтому романов я не пишу, а главное, чужих не читаю. Начитаешься всякого дерьма, а потом думаешь : "А вдруг ты , действительно, какой-нибудь псих, лежишь себе сейчас в сумасшедшем доме, на тебе смирительная рубашечка и вся твоя жизнь тебе только мерещится. А вдруг все мы психи?"
Шатаясь, я брел обратно, непонимающими глазами смотрел на груду железа, не так давно служившую автомобилем лучшему моему другу.
Трудно представить себе человека более жизнерадостного, чем Максимовский. Еще вчера, да какое там вчера, всего лишь десять минут назад его безупречное лицо мелькало у меня перед глазами. Теперь Максимовский напоминает шашлык. Его обгоревшее тело лежит у моих ног и дымится. Если бы за последние два дня мы не выпили столько горючего, может быть, он и не расплавился бы так быстро. Вот так: век живи, век учись!
Максимовский -- человек-оркестр. Прирожденный победитель, эксклюзивный тираноборец, феноменальный герой. Хозяин жизни, чемпион мира, белоснежный воротник. Укротитель ядовитых петухов, кумир и триумфатор. Великолепная интуиция. Титаник! Вместо души у него нефритовый монолит и сердце из лунного камня. Кто-то поджарил ему задницу? В связи с этим я разочарован и невменяем, и оставляю это событие без комментариев.
Отовсюду сбежался народ. Кто-то поливал машину из ведра, кто-то бросил покрывало на Максимовского. Поразительно, но больше всех остальных хлопотала тетка в облезлой ондатровой шапке. Она организовала на площадке такую жуткую суматоху, что мне стало стыдно за вчерашний инцидент.
Вокруг мельтешили какие-то бессмысленные люди, в ушах еще звенел взрыв, но я услышал ее.
-- Спросите у него, -- сказала Катя голосом сладким, как рахат-лукум, -- я нравилась ему хоть немного?
А потом я ее увидел. Она сидела посреди толпы в луже крови и глазами искала меня.
-- Я здесь, -- произнес я, как только оказался в силах что-либо говорить.
-- А, это вы. Вы живы, слава богу.
-- Не знаю, жив ли я.
-- Не казните себя, вы ни в чем не виноваты. Дайте вашу руку.
Я склонился, взял ее тоненькую ладонь в свою руку и заглянул в глаза.
Ни один мудрец на свете не смог бы описать эти глаза. В них было столько силы и любви, что я не удержался и заплакал. Я ревел навзрыд. Первый раз в жизни не от жалости к самому себе. Почти физически испытывая страдания невинного человека, я оплакивал дитя, по злому стечению обстоятельств оказавшееся втянутым в орбиту жестоких мужских ристалищ и междоусобных братоубийственных конфликтов на нервной почве.