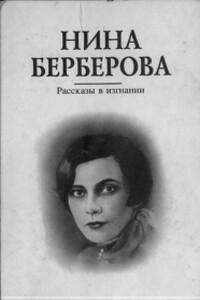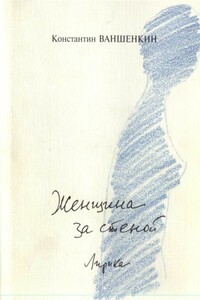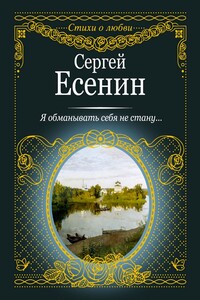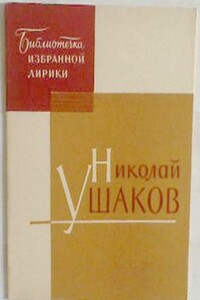Немного не в фокусе : стихи, 1921-1983 | страница 34
Я привожу эти стихи по сборнику 1984 г. (“Стихи: 1921–1983”. Послесловие А. Сумеркина. New York: Russica Publishers), со странными рисунками Бахчаняна, изображающими, по-моему, гинекологический рентгеновский снимок. Видно, что художник внимательно читал “Курсив мой”. На книжке дарственная надпись: “Дорогим моим друзьям Омри и Ирене, неизменно верная и любящая их Нина. Принстон 7 авг. 1985”.
Передо мной несколько книг Берберовой с надписями, но десятки ее писем ко мне, кажется, безвозвратно пропали во время моих бездомных странствий. В отличие от нее, я не научился беречь архив.
На шмуцтитуле “The Italics are Mine” написано по-английски: “I invite you to our past” (“Приглашаю вас в наше прошлое”). На “Облегчении участи”, которое нахожу сейчас на полке между Бабелем и Булгаковым, отделяющим Берберову от ее старого знакомца Бунина: “То Gila on the eve of her great day (“Гиле накануне ее большого дня”). Nina. Cambridge. 1969”. Н. Н. обедала у нас накануне дня рождения моей старшей дочери. Это с ее стороны была неожиданная надпись. Подобно футуристам, она считала, что творческие люди не должны иметь детей, а творческие женщины в особенности. Детей она не любила, в отличие от настоящего футуриста Романа Осиповича Якобсона, не умела с ними разговаривать и считала, что если уж родились, то пускай растут, как трава.
Я встретился с Берберовой в первый раз почти ровно за год до этого, после трех лет переписки. Дело было так.
В сентябре 1965 г. я жил в Уолтэме близ Бостона. Там в Брандайском университете работала в знаменитом тогда отделе биохимии моя мать, приехавшая из Венгрии на год по исследовательской стипендии. В один прекрасный день мне позвонил по телефону из Принстона историк Луи Фишер, в 2о-е и 30-е годы корреспондент в Москве, с тех пор разочаровавшийся в коммунизме. Ему нужен был человек, который мог бы перевести его книгу “Жизнь Ленина” на русский язык. Леа Гольдберг, израильская поэтесса, профессор сравнительного литературоведения в Иерусалимском университете и сама великолепный переводчик, порекомендовала ему меня.
Опишу когда-нибудь по другому поводу, каким каторжным трудом по розыску русских и немецких первоисточников обернулась эта работа и какие смешные ляпсусы и глубокие выводы, построенные на этих ляпсусах, нашел я у Фишера. Однако ж, я должен быть ему благодарен, потому что он спросил меня, не буду ли я возражать, если он даст мой перевод на прочтение и стилистическую правку одной русской женщине. “Кому? — спросил я. — Вы не будете знать. Некто Берберова. — Разумеется, я знаю, кто такая Берберова, читал ее вещи и ее переводы английской поэзии в эмигрантских журналах, и она ведь издала посмертный сборник Ходасевича. — В самом деле, вы читали ее? Вот уж не думал, что она пользуется такой известностью. Мы с ней живем по соседству в Принстоне”.