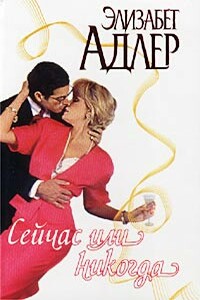Ярцагумбу | страница 11
Так шли дни. Мне было интересно со Стариком и не напряжно. За завтраком или обязательным вечерним чаем он говорил немного и насыщенно о литературе и живописи, о человеческих страстях и никогда о политике, порой внезапно уходил в себя и нес это свое отчуждение в кабинет, в мансарду, топая по ступенькам круто ввёрнутой в верхний этаж лестницы. Я чувствовала его заботу, внешне незаметную, но внятную. Я привязалась к обеим кошкам и псу, с аппетитом поглощала замысловатую, многотравную стряпню Старика и книги его обширной библиотеки. Благодаря быстро освоенному скорочтению мне удалось проглотить прустовских «Девушек в цвету», которые дали мне возможность изучать в подробностях, будто под микроскопом, сложные правила внешнего и внутреннего этикета и поразительную фальшь и витиеватость человеческих отношений европейцев конца XIX века. Мне казалось, к нашему времени люди стали искреннее, во всяком случае, те, с которыми приходилось общаться мне, и те, которых я узнавала на страницах Шолохова и Пастернака, Маркеса и Уайлдера. Когда же дело дошло до эссе Борхеса, я поняла, что внезапно и ощутимо повзрослела, что мне легко открываются загадки, о разрешении которых я совсем недавно не только не могла мечтать, но о существовании коих попросту не подозревала. Моя жизнь обрела объемность, о которой прежде я ничего или почти ничего не знала. Будто новая моя ипостась получила новую, соответствовавшую ей реальность. Я вжилась, вживилась в эту иную среду, в этот дом, в этот сад.
В своей дальней глубине сад впадал в прострацию, терял ориентиры дозволенного и позволял засорять себя сплетению колких дебрей облепихи над черным, еле движным ручьем, который мог отыскать только черный тибетский мастиф в надежде на выход из огражденных облепиховыми зарослями владений сада. Он прошуршивал низом, шевеля запущенные травы, погружал широкие лапы в гнилое дно ручья и брел вдоль него вниз по еле заметному течению, наслаждаясь его вязкостью и тухлой запашистостью.
Лето ластилось, льстило, ласкалось. Лето млело, парилось, истекало соком переспевающих ягод, плавилось, плелось устало и остывало, наконец, под послеобеденным дождем, покрывая мурашками оконные стекла, к вечеру подрагивало желейно, красно-смороденно, потом медленно засыпало. Лето липло, цеплялось и приставало жарой. Бесстыжие домогательства носили неоднозначный характер и в проявлениях своих, порой нежных и осторожных, порой коварных и неожиданных, были изобретательны – лето блудило: льнуло нежной дорожной пылью к ногам, проникая между пальцами и пузырясь под шагами ничего не подозревающих, босых стоп. Оно обволакивало теплыми одеялами тумана и баюкало, утешало остывающими вечерами, перед тем как расчехлить из облачности ночное небо и подглядеть за землей множеством внимательных глаз из черноты, уже отраженной круглым зеркалом луны. Внезапно лето отворачивалось, пряталось в похолодании и ветре: изменяло.