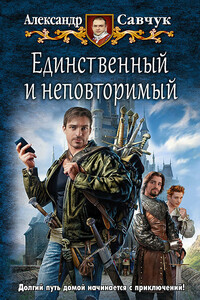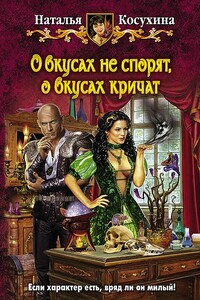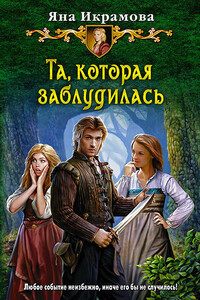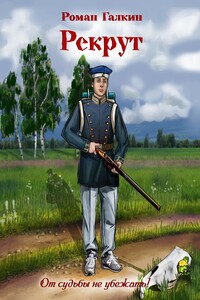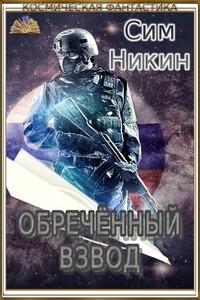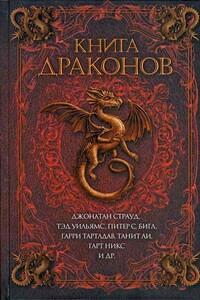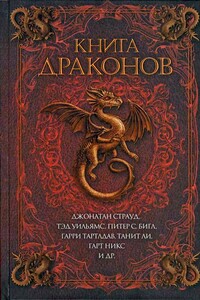Кощей. Перезагрузка | страница 50
А посох-то не просто палка. И мужик явно в курсе его назначения. Похоже, стоит пообщаться с мельником плотнее. Вот только без свидетелей.
Отталкиваю обмякшего мужика. Болтомир только сейчас заметил, что я отстал, и вопросительно смотрит на меня.
– Объяснил смерду, чтобы вел себя с благородными людьми вежливо, – бросаю ему и, чтобы не дать княжичу озадачить меня каким-нибудь неудобным вопросом, догоняю телегу и обращаюсь к крестьянам: – Большая деревенька-то?
– Наша-то? – переспрашивает мужичок. – Дык три двора всего и осталось. Середу со всей семьей в прошлом годе волки задрали. Теперича его хата пустая стоит.
– Отчего ваш князь облаву на волков не сделает, коли лютуют так серые? – спрашивает Болтомир.
– Нам ли ведать княжьи помыслы, – пожимает плечами крестьянин.
Вспомнив слова мельника о бывшем владельце посоха и реакцию на них Болтомира, спрашиваю у княжича:
– Кто такой тот лесной князь, о котором говорил смерд?
– Нешто в ваших землях лесных татей нет? – в очередной раз удивляется моему незнанию тот.
– Почему нет? Есть, – и, вспомнив известный анекдот, добавляю: – Немножко. Только для себя.
По озадаченному взгляду княжича видно, что он анекдота не знает. Надо будет при случае рассказать.
– А-а, – доходит до меня, – у вас главарей татей называют лесными князьями?
Парень отрицательно крутит головой и терпеливо поясняет:
– Под рукой лесного князя бывает несколько шаек. Иной раз их собирается так много, что не всякого князя дружина сможет дать им отпор. А рано ли, поздно ли такая орава затевает нешуточную татьбу, и тогда горят веси да деревеньки, а то и крупным городам несладко приходится. Потому, как только слух о появлении лесного князя разлетается, окрестные князья да бояре сыск объявляют, назначив награду за голову лихоимца. Бывает, и рать собирают, после которой в окрестных лесах не то что татей, крупного зверя не остается.
– Понятно, – удовлетворяюсь объяснением. – У нас такие персоны крестными отцами называются.
Так и беседуем, следуя за скрипучей телегой, пока не выходим на опушку. Перед нами на небольшом взгорке за кое-где подгнившим частоколом расположились в окружении сарайчиков несколько крытых соломой изб. В начинающих сгущаться сумерках слышится милая русскому сердцу какофония деревенских звуков: мычание коров, куриное кудахтанье, гогот гусей, тявканье собачонки и чья-то добродушная матерщина.
– Вот они, Мирошки наши, – сообщает мужичонка, остановив телегу.
– Не слепые, сами видим, что вот они, – двигаюсь вслед за княжичем к жердяным воротам. Однако поняв, что сопровождавшие нас крестьяне следовать в деревню не спешат, удивленно оборачиваюсь: – А вы чего встали?