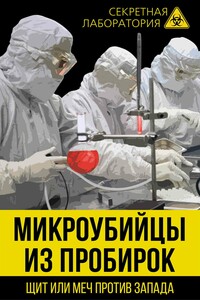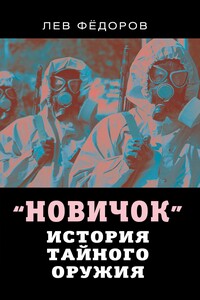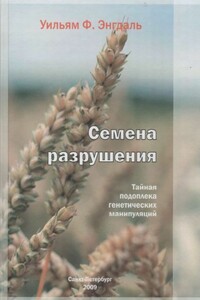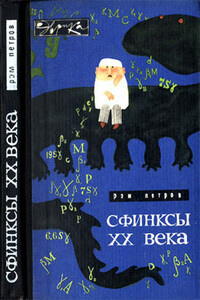Советское биологическое оружие: история, экология, политика | страница 34
Применительно к военно-биологической проблематике практически сошлись два вектора. С одной стороны, ОГПУ хотело иметь свою базу для работы с опасными бактериями и вирусами в связи с решением собственных террористических задач. С другой стороны, ВОХИМУ после 1930 года, когда во Власихе новая лаборатория была создана не для них, а для ВСУ, было вынуждено продолжить поиски места вне Москвы для опытов с самыми опасными инфекциями в связи с созданием биологического оружия.
В общем в 1930–1931 годах доблестные советские органы «раскрыли» несколько групп микробиологов — «шпионов и террористов». Поскольку работа была поставлена на серьезную основу, в их орбиту попал сильнейший в научном отношении состав биологов-заключенных, что позволяло вести военно-биологические работы не только в нормальном режиме (силами свободных микробиологов из Москвы из ИХО РККА), но и в режиме «шарашки», когда заключенные из других городов одновременно были и исследователями, а иногда и подопытным материалом.
Таковы предпосылки возникновения БОН ОО ОГПУ, то есть Бюро особого назначения Особого отдела ОГПУ.
Из записи в рабочем дневнике директора Суздальского музея А.Д.Варганова, датированной 30 ноябрем 1934 года, следует, что летом 1931 года Покровский «монастырь был передан в целом в распоряжение политизолятора ОГПУ, которым был произведен полный ремонт построек, и монастырь был закрыт для всех посторонних граждан… В 1932 г. в монастыре появилась организация, называемая БОН ОО ОГПУ. Работники музея, несущие охрану памятников, долгое время не допускались до осмотра памятников, кроме как собора и ризницы…. Помещения монастыря были приспособлены под нужды БОНа…Состояние монастыря было образцовое, все остеклено, учинено, белено.» (9).
Расчет был очевиден — здесь же в Суздале в Спасо-Евфимиевом монастыре находился политизолятор, где содержались многочисленные «враги советской власти», и это был источник «материала» для опытов, не требовавших каких-либо разрешений. Охрана обоих монастырей была общая.
Возглавил БОН врач-бактериолог М.М.Файбич с серьезными знаками различия в петлицах своей военной формы.
Основу мощной команды микробиологов, которые стали работать в Суздале в области особо опасных инфекций человека, составили ученые, привезенные из разных мест страны.
Директор института «Микроб» в Саратове профессор С.М.Никаноров был оторван от борьбы со вспышками чумы на востоке и юге страны (142) и доставлен в Суздаль в новом качестве з/к. Из Саратова же прибыл ведущий специалист по чуме Н.А.Гайский (за деяния, предусмотренные ст.58–11 УК РСФСР; наказание — 5 лет лагерей (6)). Из того же «Микроба» доставили специалиста по чуме и туляремии С.В.Суворова, который первым в СССР выделил от больных людей возбудитель туляремии — это произошло еще в 1926 году. В числе обитателей «шарашки» оказались также А.Вольферц и Д.Голов (тоже из «Микроба»). Из Минска доставили Б.Я.Эльберта, где он возглавлял организованный им в 1924 году санитарно-бактериологический институт (нынешний НИИ эпидемиологии и микробиологии минздрава Белоруссии) (42).