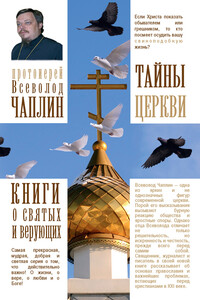Православие. Честный разговор | страница 110
Время культуры
Какими мы выходим из храма в мир? Радостными, готовыми улыбкой и добрым словом свидетельствовать о Христе перед «внешними» людьми, которые озабочены собой и житейской суетой? Или озлобленными, горделивыми, пренебрежительно отталкивающими тех, кого встречаем? Наверное, в ответе на этот вопрос – один из критериев подлинности, правильности нашей духовной жизни и устроения жизни приходской.
Между прочим, именно добрый, совершенно особый по тем временам настрой людей, шедших домой или на работу из храма, был неистребимым средством миссии в советские годы. Видел тогдашний человек светлую старушку в белом платочке – и опровергалась вся атеистическая пропаганда, и отлетали в сторону тягостные думы о том, где достать колбасу или денег на нее. Об этом прекрасно писал отец Георгий Чистяков, который жил как верующий человек в брежневской Москве.
А вот что еще, как ни странно, говорило о правде Божией в советское время: атеистическая литература! И я сам, и многие мои тогдашние современники почерпали первые знания о вере именно оттуда. Удивительно: эти книги и брошюры давали ответ на поиск истины и смысла, причем ответ прямо противоположный задуманному авторами и их начальниками. Те крупицы учения Христова, те факты истории, те творческие «окна в небо», которые проскальзывали в антирелигиозных текстах, сияли диамантами в куче атеистического словесного мусора – скучного, надуманного, агрессивного, закоснелого. В конце концов, достаточно было узнать о том, что где-то рядом живут люди, способные ради своей веры не покоряться мощи советской идеологической машины, дабы понять: «в этом что-то есть»!
Кстати, вот и еще одно доказательство неизбывной тоски человека по Богу: в обществе, где о религии обычный человек ничего не слышал, разве только критику, он вдруг из этой самой критики убеждался в неправоте атеизма. Были бы советские идеологи умнее, они бы вообще о вере молчали. Но и это бы их не спасло: люди все равно услышали бы голос нашей культуры. Заговорили бы и камни, причем не только те, которые составили храмы. Все, что гармонично, все, что чисто и наполнено любовью, говорит о Боге, о Христе.
В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, в небольшом зале на Солянке прошла, пожалуй, первая выставка христианского искусства, получившая разрешение тогдашних властей. Мне довелось тогда участвовать в ее организации. Помню, как мне домой позвонил игумен Сергий (Соколов), тогда келейник Святейшего Патриарха Пимена, а впоследствии епископ Новосибирский, и предложил выставить предметы искусства из Патриаршей коллекции. Участвовали в выставке и современные иконописцы, и художники-реалисты, и приверженцы весьма смелого авангарда. И «демократы», и «почвенники». Никому не было тесно. В одном углу зала общался с посетителями популярный на Западе авангардист Валерий Юрлов, в другом ярко рассказывал об идеале православной монархии Виктор Саулкин (по-моему, именно тогда у него открылся дар публичных выступлений).