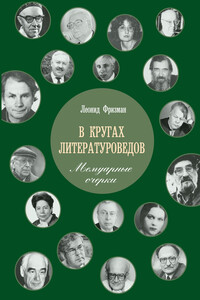Остроумный Основьяненко | страница 79
Квитка проводит нас через множество комедийных ситуаций, в которых участвуют и вновь вводимые персонажи повести: Тимофей Кондратьевич Лопуцковский, бесконечно рассказывающий, как он «вояжировал» из Чернигова в Воронеж и из Воронежа в Чернигов и какие где видел цены, Эвжени, изъясняющаяся на «смеси французского с нижегородским»: «Пуркуа твоя „машермер“ взяла тебя от нас?», «Имажине, моя милая машермер!», «Пуркуа же умирать?», «Ведите ее, мосье жоли офисье» и другие.
Но заканчивается повесть предсказуемо: влюбленные сочетаются законным браком. «Иван Семенович скоро после свадьбы переведен в Москву и, взяв с собой Пазиньку, продержал ее полгода у родных, а потом вывез в свет. Чудо малороссияночка! Прелестна, мила, ловка, образованна, только природное осталось в выговоре: покόрно прόшу, όхотно рада, пόжалуйте и пр. Кирилл Петрович высылает им исправно положенные на прожитие деньги, и они наслаждаются жизнию».
Все хорошо? Все как надо? Квитка подспудно, но несомненно сопротивляется такому восприятию финала своей повести. Каждое его слово пронизано грустной иронией: не все хорошо, а ничто не меняется. «Кирилл Петрович читает прошлогодние газеты, все надеясь на следующей странице прочесть истребление карлистов и воцарение королевы. Зятя любит и хвалится, что этим браком род его не унижен. Он нашел в копиях из бумаг, полученных им из Черниговского архива, что первоначальный Шпак, усердием своим к ясновельможному пану гетману приобретший сие громкое звание, имел двух сыновей. Старший остался дома и размножил Шпаков; а меньшой пошел к русским. „Обмоскалясь“, род его переменил прозвание на великороссийское и стал называться „Скворцов“. – Итак, изволите видеть, – говорил он любопытствующим, – мы все одного происхождения. Процесс с паном Тпрунькевичем он ведет с постоянным жаром. С товарищем своим „по дипломатике“ Осипом Прокоповичем рассорился формально. Тот вздумал поздравить его с успехом христоносов и истреблением карлистов навсегда… „Зачем забегать вперед? Я еще не начинал газет сего года читать“. Хлопнул дверью и ушел. И с тех пор дипломаты наши не видятся».
Все по-прежнему. И вновь вспоминается Гоголь: «Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!»[105]
Глава третья
«Пан Халявский»
Мысль о создании романа «Пан Халявский» была подсказана его автору Жуковским. 26 апреля 1839 г. Квитка писал Плетневу: «В. А. Жуковский, говоря со мною о „Дворянских выборах“, советовал еще продолжать в том же тоне и с тою целью. Когда же я изъяснил трудность составить из всей этой кутерьмы правильную драму, то он мне советовал поместить и развить все это в романе, украсив и наполнив сценами из губернских обществ»