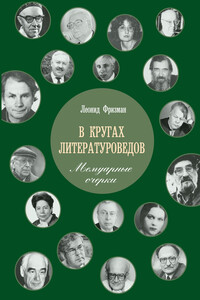Остроумный Основьяненко | страница 52
Квитка завершает свою повесть словами: «И Дениса осудили по заслугам». И лишь тогда нам открывается в полной мере смысл рассуждения, которым она начиналась. В отличие от того, что мы видели в «Божиих детях», связь здесь несомненна и органична. Во вступительном монологе писатель стремился внедрить в наше сознание по крайней мере две истины, которые и призвано подтвердить последующее «истинное происшествие, многим в рассказе известное».
Первая, что Создатель наш – «самое истинное добро, самая чистая правда, он не потерпит, чтобы какое зло осталось неявленным. Хотя человек, учинивший зло, и запутает последствия до того, что никто не доищется правды, так Он, премудрость вечная, Он, знающий наши тайны, видящий мысли наши, Он не допустит торжествовать злу. Он сделанное тобою обнаружит таким путем, каким ты и не предполагал. Он объявит тебя как перстом укажет: – „Вот он!“ – и так объявит, при таком случае, когда ты не ожидаешь, и чрез такую безделицу, ничтожный случай, что ты вовсе и не думал».
И вторая, что напрасно мы боимся лишь суда человеческого и думаем, что Суд Божий нам ни по чем. «Чего каждый из нас ни делывал тайком? – И если только люди не прознали, то и горюшка мало: ходим себе бодро, глядим прямо – что твои праведники! Хоть под суд отдавай: доказчиков нет, свидетелей не было, сошло с рук – и концы в воду! Так мы думаем, да не так бывает. Один-то конец нашего греха в руке Божией, а другой крепко привязан к нашей совести, точно к языку колокола, – как ударит, так сами же все и выскажем, и обличим себя кругом».
Завершается третья книжка повестью «Вот любовь!»
4 октября 1839 г. Квитка писал Плетневу, что «сведения о Галочке», героине этой повести, были сообщены ему «единственно с тем, чтобы сделать их известными», и он «рассудил написать для этого класса людей что-нибудь назидательное»[93]. Упоминается «Галочка» и в написанном тогда же письме к М. А. Максимовичу: «На требование Ваше поучаствовать в составлении „Киевлянина“ скажу Вам со всею откровенностию: пишу не по наряду, не делаю из сего работы по обязанности, а там, как придется. Вспомнится какая Маруся, Галочка, от нечего делать – напишу, и так написанное все отправил к приятелю в Петербург, он уже дирижирует всем, и я в распределении пьес вообще не участвую и часто, получая какой журнал, не ожидая в нем своей пьески, нахожу ее нечаянно. Теперь у меня нет ничего ни готового, ни придумываемого…»[94]
«Приятелем», не названным здесь по имени, был Плетнев. Ему и была отправлена в русском переводе повесть «Щира любов». Но, ознакомившись с ней, Плетнев (что бывало очень редко) выразил неудовлетворенность ее концовкой, которая, по его мнению, не соответствовала художественной правде, упрощала и обедняла основную коллизию произведения, нарушала логику развития характера главной героини, была данью идеализации. Это вызвало неприятие со стороны писателя (что также было для него совсем не характерно), и его жена Анна Григорьевна отвечала Плетневу от их общего имени: «Почему вы находите, что Галочка существо неземное? Право, мне жаль, что вы так думаете, чтоб в простом быту не было благородства души и возвышенных чувств! Я вас хочу уверить, что Галочка существовала и что теперь есть в том месте, где она жила, люди, которые рассказывают о ее уме и о красоте ее столько похвал, что они даже в песнях сохранились… Извините, что я так горячо вступилась за Галочку – мое милое дитя, которое тем более для меня интересно, что это истинное происшествие, о котором давно просила мужа описать его»