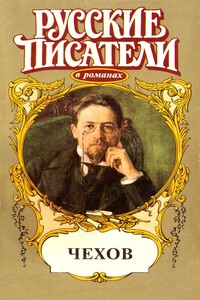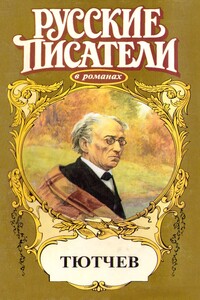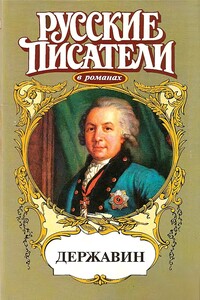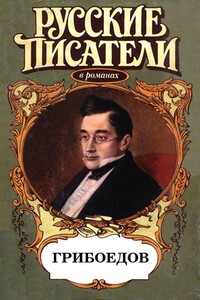Игра. Достоевский | страница 17
Он тоже спрятался в свою обширную щель, на углу Владимирской и Графского переулка. Неуютно было в этой щели. Он вырос в огромной дружной семье, человек примерно в пятнадцать, считая прислугу, которая счастливо обитала в двух комнатах, кухне и крохотной детской, и все, как ни странно, уживались друг с другом, искренне уважая и крепко любя. Что говорить! Кормилицы, давным-давно выкормивши младенцев у божедомского доктора, пешком приходили из деревень, обыкновенно по зимам, когда землепашца отпускала работа, и гащивали у них по нескольку дней, окружённые вниманием взрослых и обожанием чуть не бесчисленной ребятни.
После такой приветливой тесноты Божедомки выдерживать полное одиночество ему было несладко, и он, случайно повстречавши на улице, заманил к себе Григоровича[5], извиняясь за то, что занимает самую светлую и весёлую комнату, в которой работалось так хорошо. Григорович не мешкая согласился разделить с ним жильё и дня через два перевёз свою скудную сборную мебель. У него с мебелью тоже было негусто: два рыночных стула, низенький письменный стол из сосны, отделанный, уж разумеется, под красное дерево, такой же старый диван, служивший на ночь постелью, и громоздкий высокий комод, да книги и бумаги повсюду, на столе, на стульях и на полу.
Сверх тотчас растраченной тысячи опекун высылал ему ежемесячно десять рублей серебром. Григорович получал из дома чуть больше. Для скромной, расчётливой жизни таких денег могло бы хватить, но они оба рассчитывать не умели, деньги у них не держались совсем, почти всё в две недели расходилось куда-то, и две других они продовольствовались булками и молоком, иногда унижаясь до ячменного кофе. Прислуги не было у них никакой. Они сами, учредив очередь, ставили самовар и сами ходили за булками, молоком или кофе в дом Фридерикса, всего в двух шагах.
Григорович был легкомыслен, талантлив, добр, простодушен и несносный болтун. Многие дивились потом, как это он уживался именно с ним, во всём противоположным ему? А он любил и уважал Григоровича, хоть своим легкомыслием и болтовнёй тот временами выводил его из себя. Только подумать: Григорович тоже начал писать и два-три очерка успел напечатать, а не знал почти ничего! Они вместе учились в Инженерном училище, и что ж? В те времена имена Шекспира и Шиллера были для того откровением, а о Купере, Гофмане, Вальтере Скотте Григорович и совсем не ведал ни звука.
Пристыдив, в праведном увлечении сказав пылкую речь о величайших сокровищах мира, он указал товарищу по жилью и перу, с чего надо бы было начать, и Григорович послушно присел за «Кота Мурра», «Онтарио» и «Астролога». Память у него была крепкая, и схватывал Григорович всё на лету, но это всё, схваченное легко, на лету, в нём как будто проваливалось куда-то в небытие, не оставляя почти никакого следа. И впоследствии Григорович мало читал, приходил в восхищение от Гюго и Бальзака, но по-прежнему плоды восхищения словно уходили в песок.