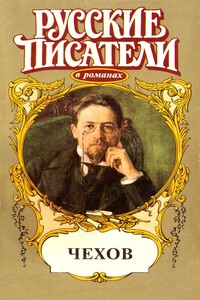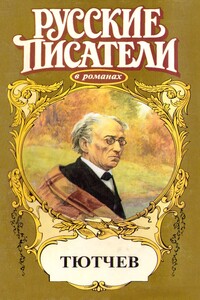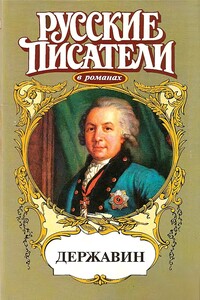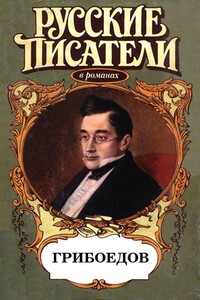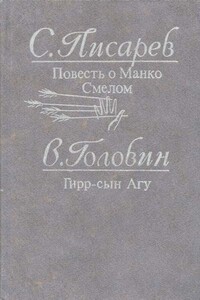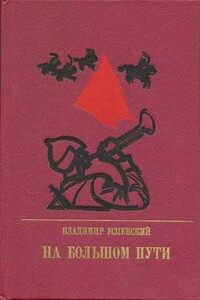Игра. Достоевский | страница 13
Он не имел намерения сносить оскорблений и от самого государя, а тут ещё эта скверная кличка тотчас пристала к нему, и он уже знал, что у нас иные непристойные клички держатся до самой могилы, то есть именно те, которые так приятно для мелкого сердца унижают в глазах всех достойного человека, и опять выходило как следствие, что с такой скверной кличкой не обнаруживалось ни малейшего смысла служить: всё равно ни до чего не дослужишься. И представят когда-нибудь в капитаны, это бы он заслужил, именно был не дурак, но всенепременнейше вспомнят:
— Э, батенька, это который же Достоевский? Что-то, помнится, об нём говорили? Не тот ли, дурак?
И завернут представление вспять, ибо как же над объявленным дураком не потешиться? Над кем же тогда?
Подтверждая это первое и неизменное правило государственной службы, вскоре стали по коридорам передавать, будто «того дурака» решились законопатить в какую-то дальнюю крепость, конечно служить, возможно, на юг, а то и в Сибирь, где только и место «тому дураку». Слушок был так себе, лёгкий, неясный, но он тотчас смекнул, что в той крепости, если пошлют, его и сгноят, слишком крепко запомнив нехорошее словцо государя. Какие деньги, какие чины? И ещё, как обыкновенно бывает, к одной неприятности тотчас прилепилась другая.
У него была бездна долгов, рублей восемьсот, обмундировка, квартира и прочее, как достойно быть офицеру. Разом иметь такие огромные деньги у него ни малейшей возможности не было, а командировка в дальнюю крепость не потерпела бы задержки с уплатой.
И тут обозначался самый коварный закон: в этом мире чинов и отличий считалось в высшей степени справедливым одному прощать то, что ни под каким видом не прощалось другому.
В самом деле, любые долги, которые сколько угодно превышали бы личное состояние, то есть долги бесчестные и скандальные явно, прощаются легко тем, у кого положение и поддержка, в иных случаях даже смотрят на них с уважением, а бедняк за такие долги получает пребольно и публично щелчка.
Что говорить, удобно и расчётливо ему бы было служить, когда за ним вслед потянулись бы грязные жалобы обезумевших кредиторов, перепуганных тем, как бы куш-то их не удрал.
Да и, скажите на милость, что бы он делал без Петербурга в глуши? Куда бы годился? Что бы порядочное мог предпринять, чтобы вырваться из тенёт на свободу?
Впрочем, ещё одно было, пожалуй, поважнее всех предыдущих: служба отнимала лучшее время, а ведь только время бесценно, как сама жизнь. Долго служить, то есть годы и годы, он всё равно никогда не хотел, в долгой службе не находя существенной пользы ни для себя, ни тем более для Отечества, из каких же было коврижек понапрасну терять свои лучшие годы? Истинную и достойную деятельность он прозревал лишь в литературных трудах.