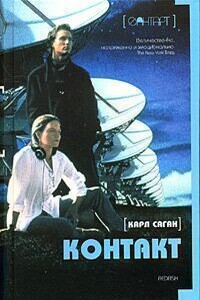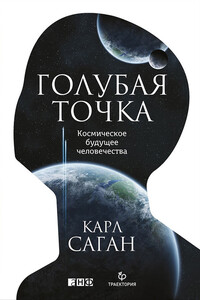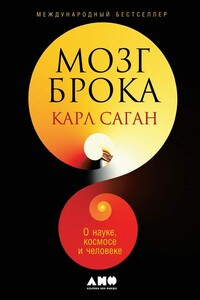Миллиарды и миллиарды: Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий | страница 30
Искусство прорицания давно утрачено. Несмотря на наше, как выразился Чарльз Маккей[16], «горячее желание пронзить взглядом густую тьму, скрывающую будущее», мы здесь бессильны. Важнейшие научные открытия, как правило, оказываются и самыми неожиданными – не логическим следствием уже накопленной суммы знаний, а совершеннейшим откровением. Природа гораздо более изобретательна, непредсказуема и изощренна, чем человек. Какие эпохальные открытия в астрономии ждут нас в ближайшие десятилетия, как изменится наш миф о сотворении мира? Гадать об этом бессмысленно. Однако наметившиеся тенденции развития исследовательской техники приоткрывают перед нами перспективы, от которых захватывает дух.
Если предложить астрономам назвать четыре самые интригующие загадки в их области, то мнений будет столько же, сколько людей. Многие, насколько мне известно, составили бы список, отличный от моего. Например, из чего состоит 90 % Вселенной? (Мы до сих пор этого не знаем[17].) Как найти ближайшую черную дыру? Чем объяснить поразительную странность, что расстояния между галактиками, предположительно, квантуются, т. е. всегда кратны определенным числам? Что такое гамма-всплески – взрывные выбросы жесткого излучения, интенсивность которых превосходит энергию целой звездной системы? А парадоксальный факт, что Вселенная моложе самых старых звезд в ней? (Хотя данные, полученные с помощью орбитального телескопа «Хаббл», заставили большинство ученых пересмотреть оценку возраста Вселенной. Если ей действительно 15 млрд лет, то парадокс снимается.) Одних ученых особенно занимает исследование кометного вещества в земных лабораториях, других – поиск аминокислот в межзвездном пространстве или тайна происхождения древнейших галактик.
Но самые захватывающие перспективы – если только во всем мире не будет жестко урезано финансирование астрономических исследований и космических миссий (ужасная, но вполне возможная вещь!) – откроются перед нами, когда мы ответим на следующие четыре вопроса[18].
1. Была ли когда-нибудь жизнь на Марсе? Нынешний Марс – это мертвый, безводный голый камень. Но повсюду на нем видны отчетливые следы древних речных долин. Есть и признаки некогда существовавших озер и даже океанов. По степени кратеризации поверхности планеты можно примерно определить, когда Марс был более теплым и влажным. (В этом методе за основу берется кратеризация Луны и проводится радиоизотопное датирование на основе периода полураспада элементов из образцов лунного грунта, доставленных на Землю в ходе программы «Аполлон».) Ответ: около 4 млрд лет назад. Именно тогда, когда на Земле зарождалась жизнь! Неужели из двух соседних планет с очень схожими условиями лишь одна оказалась колыбелью жизни? Или жизнь возникла и на Марсе, чтобы очень скоро стать жертвой необъяснимого изменения климата? И не могла ли она уцелеть в неких оазисах, возможно, под поверхностью планеты, и в той или иной форме просуществовать до нашего времени? Таким образом, Марс ставит перед нами два фундаментальных вопроса: возможна ли на нем жизнь, сегодня или в прошлом, и что ввергло планету, столь похожую на Землю, в ее теперешнее состояние обледенелой глыбы. Второй вопрос для нас – решительно перекраивающих свою среду обитания, почти ничего не зная о возможных последствиях, – может оказаться отнюдь не праздным.