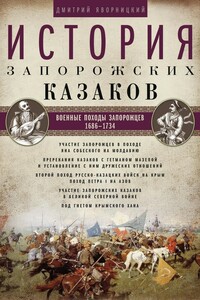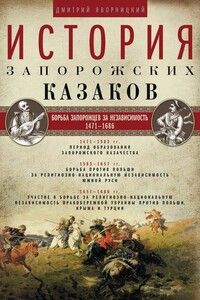Том 1. Быт запорожской общины | страница 94
Ниже укрепления, уже в самой деревне Капуливке, в огороде крестьян Семена Кваши и Ивана Коваля, уцелели два каменных креста над могилами казаков Семена Тарана, умершего в 1742 году, и Федора Товстонога, скончавшегося в 1770 году, 4 ноября[292]; последний был атаманом Щербиновского куреня в 1766 и 1767 годах, прославил себя на войне 1769 и 1770 годов, вернулся из похода тяжелораненый и через несколько месяцев скончался. Кроме этих двух крестов сохранились еще кресты казаков Данила Борисенка, умершего в 1709 году, 4 марта, Семена Ко<валя>, умершего в 1728 году, и надмогильный камень над могилой знаменитого кошевого атамана, Ивана Дмитриевича Сирко, умершего в 1680 году; последний находится в огороде крестьянина Николая Алексеевича Мазая и имеет следующую надпись: «Р. Б. 1680 мая 4 преставися раб бо Иоань Серько Дмитрови атамань кошовий воска запорожского за его ц. п. в. Феодора Алексевича: Память праведнаго со похвалами»[293]. В этой надписи странно лишь указание, будто Сирко умер 4 мая, между тем как из донесения его преемника Ивана Стягайло и свидетельства летописца Самуила Величко известно, что он скончался 1 августа[294]. Отсюда нужно думать, что плита, уцелевшая до нашего времени над могилой знаменитого кошевого, вовсе не та, которую казаки первоначально поставили над его прахом: вероятно, первая плита была разбита освирепевшим русским войском в 1709 году, и на место ее впоследствии поставлена была другая, оттого указание месяца и дня смерти Сирко сделано было ошибочно. Ниже деревни Капуливки, на Старом, или Запорожском кладбище, уцелели еще четыре надмогильных креста, под коими покоится прах казаков Ефрема Носевского и Данила Конеловского, умерших в 1728 году, Лукьяна Медведовского и Евстафия Шкуры, умерших в 1729 году.
Спрашивается: каким образом все эти надмогильные кресты попали в Чертомлыцкую Сечь, когда с 1709 года ее здесь вовсе не было? Ответ на этот вопрос дают местные старожилы, потомки запорожцев: они говорят, что когда казаки были под властью «тур-царя», то, умирая, просили своих сотоварищей хоронить их на Старой Сече, и те перевозили тела их к Чертомлыку на чайках.
Со Старого запорожского кладбища при деревне Капуливке открывается великолепнейшая перспектива на место бывшей Чертомлыцкой Сечи. Место это представляет собой небольшой островок, утопающий среди роскошной зелени деревьев и точно плавающий среди восьми речек, окружающих его со всех сторон. Но чтобы хорошо рассмотреть место бывшей Чертомлыцкой Сечи, нужно от кладбища спуститься вниз, пройти небольшое расстояние по прямой улице, потом под прямым углом заворотить направо в переулок и переулком добраться до берега речки Подпильной. Здесь прежде всего бросается в глаза довольно возвышенный, но вместе с тем отлогий, песчаный спуск к реке, усеянный множеством мелких речных ракушек и местами покрытый громадными осокорями и вековечными вербами. Затем, ниже спуска, через реку, открываются необозримые сплошные плавни, местами затопленные водой, местами покрытые травой, но в том и в другом случае поросшие густым, преимущественно мягкой породы, лесом, то есть осокорем, вербой, шелковицей, ивой и шелюгом. С востока и запада этот лес тянется необозримо длинной полосой, с севера на юг он простирается на протяжении 15 верст, от левого берега Подпильной до правого берега Днепра. Здесь-то, в виду вековечного леса, при слиянии восьми речек, стоит небольшой, но возвышенный и живописный островок, кругом окаймленный молодыми деревьями и сверху покрытый высоким и непролазным бурьяном. На этом островке была знаменитая Чертомлыцкая Сечь. Местоположение острова, при всей его живописности, кажется, однако ж, каким-то пустынным, наводящим уныние и тяжелую тоску на душу человека: от него веет чем-то далеким-далеким, чем-то давно и безвозвратно давно минувшим. Остров стоит пустырем: на нем нет и признаков жилья, – один ветер низовой свободно гуляет да шевелит верхушками высокой травы, а кругом тишина, точно на дне глубокой могилы… Глядя на этот унылый остров, невольно вспоминаешь то время, когда здесь кипела жизнь, и какая жизнь! Жизнь во всем разгуле, во всем широком просторе: тут и бандуры звенели, и песни звонко разливались, тут же и лихие танцоры кружились таким вихрем, от которого пыль поднималась столбом, земля звенела звоном… А теперь что? Теперь гробовое безмолвие, мертвая тишина, – такая тишина, точно в сказочном царстве, заколдованном темной, страшной и неодолимой силой. Теперь лишь одни жалкие намеки на то, что когда-то жило здесь полной, открытой, никем и ничем не стесняемой жизнью…