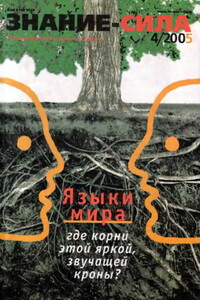Знание-сила, 2008 № 09 (975) | страница 62
То же и с Бахтиным. В стремлении встраиваться в новую, большевистскую науку он строил концепции, которые не учитывали никаких фактов. Это касается в первую очередь его концепции исторического развития литературы. Так мог поступать именно идиот. Но Бахтин не был идиотом, он был великим ученым, просто мозг поневоле работал в нужном направлении. Кстати, вторичная идиотизация идей Бахтина о хронотопе, карнавализации, полифонии и диалогическом мышлении, осуществленная в конце 1970-х, а в особенности в 1980-е и 90-е годы, с одной стороны, славянофилами типа Кожинова, а с другой, «провинциальной филологией», — тоже весьма любопытный факт. Это можно сказать и о поздних «идеях» Лосева. Автору статьи довелось увидеть Алексея Федоровича летом 1973 года на даче — он вел себя, как положено профессору-идиоту, каким он изображался в советском кино: рассеянный, с полубезумной улыбкой, не отвечающий на вопросы, говорящий невпопад и так далее. Между тем в том, что было «можно», в те же годы и даже позже Лосев писал вполне вменяемые работы по историческому синтаксису. Кстати, в духе Марра.
Второй тип — наиболее интересный: это амбивалентный идиот, внутренний эмигрант по идеологии. Он не только представляется глупцом, но иногда и сам глумится. Таким был, например, Виктор Борисович Шкловский. Рассказывали, что, когда в 1947 году на заседании Союза писателей громили Зощенко, Шкловский, бывший формалист и безусловный поклонник затравленного писателя, громил Зощенко наравне со всеми. Когда потрясенный писатель подошел к Шкловскому и сказал ему: «Виктор Борисович, как же так? Ведь вы раньше меня хвалили!», Шкловский, ничуть не смутившись, отвечал: «Что я, попугай, чтобы повторять одно и то же?»
Третий тип — это «упертый диссидент». Он наименее распространен и овеян героическим нимбом. У кого поднимется язык назвать идиотом Сахарова? Но идиотическое поведение, безусловно, было свойственно и ему (идиотичность — в самой прямоте «говорящего царям с улыбкой истину», потом ему подражал в 1995 году, во время Чеченской войны, Сергей Ковалев в своих беседах с Ельциным).
Так или иначе профессор-идиот в репрессивном сообществе — посредник между истиной, которую он в себе несет, и властью, которая ему угрожает. Эта позиция между истиной и адом диктует сумасшедшему профессору не только его поведенческую стратегию, но и саму форму, в которую облекается знание, преподносимое им под маской шутовского кривляния в аудиторию и в печать и нередко потом оказывающееся знанием пророческим, как это и нормально для дурака-юродивого в русском понимании этого слова.