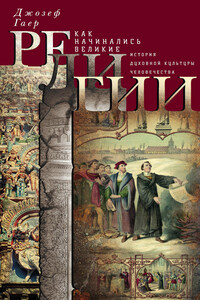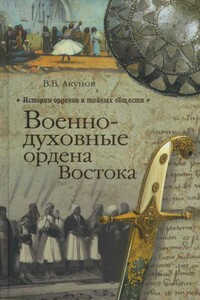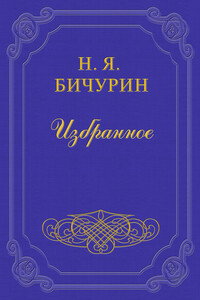Ислам. Цивилизация, культура, политика | страница 39
Таким образом, мусульманский шариат есть не что иное, как способ существования и упорядочивания ее собственных испытаний в мире религиозном и светском. Естественным поэтому является место, занимаемое в шариате Кораном – в качестве исторического и надысторического источника откровения.
Став объектом жарких дискуссий в каламе и фикхе вокруг вечности или сотворенности Божественного Слова, историческое и надысторическое в Коране обусловило с неизбежностью теоретическую и практическую ценность Сунны. Последняя выступила в качестве критерия достоверности мусульманской веры, изложенной в Коране. Включенность ее в систему мусульманских основ (усуль) представляет собой расширение диапазона необходимых сравнений, соответствующих потребностям становления государства.
Исторически становление мусульманской общины (уммы) было реализацией собственного откровения, а государство (халифат) – реализацией ее воли (воли общины). Поскольку цепь «откровение – община – государство» замкнулась, постольку волевое возвращение к первоначальным принципам стало неизбежным актом культуры, проверяющей и уточняющей собственные суждения по отношению к нововведениям в религиозной и светской жизни общины. Это возвращение привело закаленный в политических и военных битвах мусульманский менталитет к политическим и теологическим толкованиям (тафсир) и интерпретациям (тавиль) Корана. Таким образом «практический разум» превратился в соответствующее мерило восприятия «истинного откровения». Данные процессы в совокупности своей привели к образованию проединства откровения (Корана), проведения (Сунны) и сравнения (Разума). Далее компоненты этого единства сформулировались в узаконенные универсальные основы религии (усуль ад-дин).
Для достижения этого уровня мусульманская культура должна была пройти необходимый минимум преодоления самодостаточности первоначального откровения. Дело в том, что растворение первоначального откровения в государственности и праве (халифат и шариат) придало единству религиозного и светского относительную самостоятельность и, тем самым, проблемность в политике и познании, теолого-философской формой которой явилось соотношение разума и установлений веры (шар’а).
Здесь следует подчеркнуть, что соотношение разума и установлений веры является следствием разделения духовно-интеллектуальной и общественно-политической деятельности, которое породило коллизии и столкновения пытливого разума и неоспоримых кодексов. Так с необходимостью возникает единство противоположностей, ибо революционизирующая «сокрушающая» мощь разума не отделима «железным занавесом» от его же апологетических, охранительных способностей, а ограничения догматики содержат элементы вполне разумного регулирования мыслей и чувств. Разум не может быть изолирован от регуляторов конкретного типа культуры, он не сдерживает ее внутренней трансформации, переосмысления ее постулатов, а ограничения догматико-правовых установлений не столь узки, чтобы не вместить задачу ее внутренней революционизации, ибо установления веры есть не что иное, как разум, исторически трансформированный в виде неприкасаемых «священных заповедей».