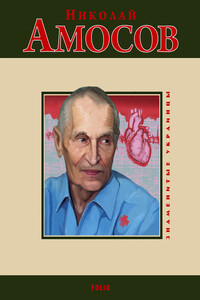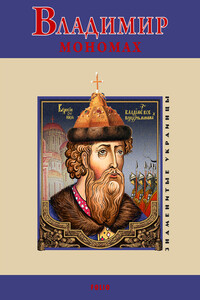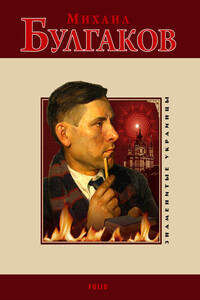Григорий Сковорода | страница 33
Стихотворения «Сада…» проникнуты глубоким религиозным чувством и в определенном смысле являются, так сказать, «заметками на полях» Библии. А еще сковородиновские песни издавна было заведено трактовать как своего рода «поэтическую биографию» автора, в частности как отзвук его напряженной духовной схватки с «богопротивной троицей»: миром, плотью и дьяволом. Недаром время от времени «богатый сад» Григория Сковороды становится «садом Гефсиманским», когда на сердце поэта ложилась грусть, печаль или страх, словно на душу самого Христа перед смертью.
Самой известной песней «Сада…» является десятая – «Всякому городу нрав и права…». Она «произрастает» из слов Иисуса, сына Сираха: «Блажен муж, иже в премудрости умрет и иже в разуме своем поучается святыне»:
Несмотря на то, что в десятой песне явно слышатся сатирические нотки, особенно заметные в ее многочисленных народных переделках, – это, прежде всего, набожная поэзия. Разве не так, если по своему идейному и образному строю «Всякому городу нрав и права…» удивительно похожа на старинные песни лириков о Страшном суде, о святом Николае, о крестных муках Спасителя, и особенно – на псалом «Нет в мире Правды, Правды не найти»? А с другой стороны, это стихотворение является «подражанием» Горацию, в частности его оде «К Меценату» («О царский правнук Меценат…»). В изображенных на манер великого римского лирика «пороках черни» Сковорода склонен видеть беспорядочную смесь страстей, мировое торжище, которого мудрый человек должен всячески сторониться. Таким образом, пользуясь старой риторической схемой «один любит одно, другой – другое, третий – третье, я же люблю вот это», поэт создал едва ли не лучшую в украинской духовной лирике эпохи барокко набожную песню о мировом «разнопутье». В конце концов, это песня о смерти, если вспомнить хотя бы то, что ее эпиграфом поначалу были слова «Solum curo feliciter mori» («Забочусь лишь о том, чтобы счастливо умереть»), а заканчивается она так:
К числу самых известных песен «Сада» относятся и «Ах поля, поля зелены…» («Песня 13-я») и «Ой ты, птичко жолтобоко…» («Песня 18-я»). В первой из них Сковорода с помощью традиционных образов буколической поэзии (цветущие поля, чистые ручьи, пение птиц, пастух, овцы, звуки свирели) рисует картину привольной спокойной жизни на лоне роскошной природы. Обращаясь к поэзии Вергилия (эпиграфом к раннему варианту этой песни взяты слова из «Георгик» Вергилия), философ говорит о сельской идиллии и спокойствии мудрого человека. Тем временем в 18-й песне он разрабатывает мотив Горация «живи незаметно». А вот выразительные средства этого произведения взяты из украинской народной лирики. Как справедливо говорил Александр Потебня, Сковорода объединяет здесь старинные украинские песни «Ой ремезе, ремезоньку» и «Ой не стой, верба, над водой»: