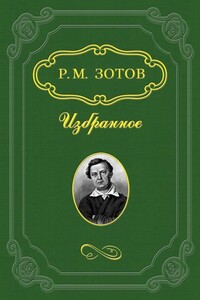Марлен Дитрих | страница 24
С наступлением сумерек мы вынужденно прерывали работу. Масла для лампы было в обрез, и нам приходилось освещать свой скудный ужин с помощью вонючего свиного жира, а потом, едва волоча ноги, мы разбредались по постелям – нашим единственным убежищам долгой зимней ночью.
Лизель спала как бревно. Ее стойкость изумляла меня. Семнадцатилетняя девушка, которая была настолько слаба здоровьем, что не могла посещать школу, часами сидела не моргая и орудовала иглой, как будто от этого зависела ее жизнь. Она навязала в два раза больше перчаток и шапок, чем я, и ни словом не пожаловалась.
А я слишком устала, чтобы заснуть, и, закрыв глаза, пыталась вспомнить тот волшебный вечер, когда вместе с мадемуазель смотрела другую трагедию, разворачивавшуюся на экране. Мне отчаянно хотелось вызвать в памяти запах мадемуазель на своих ладонях, увидеть ее улыбку, услышать смех и доверительные признания.
Женщины, у которых есть секреты, должны подружиться, oui?
Но мадемуазель превратилась в бледную тень, осталась лишь в воспоминаниях – неподвижная, с оттенком сепии. Безжизненная, как янтарь.
Я потеряла ее.
Мне остались только бесконечная нудная работа и ежедневный страх, да еще слабая надежда, что как-нибудь, когда-нибудь война наконец закончится и жизнь завертится вновь.
Мама уехала на фронт в начале 1918-го, после того как пришло срочное известие, что полковник фон Лош ранен. Как и было обещано, меня и Лизель она отправила в Берлин.
Наконец-то я вернулась в город, который любила, хотя и знакомилась с ним только во время кратких приездов сюда с мамой. Куда ни кинь взгляд, везде был мрак и запустение. На улицах никого, кроме стариков и одетых в черное вдов, которые, кутаясь в клетчатые платки, рылись в мусорных кучах или ловили бездомных кошек.
Ома была изолирована от страданий. Дядя Вилли продолжал получать изрядные барыши от своей фабрики, выпускающей продукцию военного назначения. Жалованье ему платил сам кайзер, и роскошный особняк Фельзингов с его канделябрами и бархатными портьерами был ровно таким же, каким я его помнила с детства, – пантеоном нашей семейной предприимчивости.
– Когда ты успела стать такой красавицей? – поинтересовалась бабушка, глядя на меня сквозь очки. – Ты не похожа ни на кого из нашей семьи, mein Liber[27].
– Похожа – на маму, – возразила я.
Мы беседовали на верхнем этаже, у бабушки в будуаре. Она продолжала использовать слово «будуар» и пересыпать свою речь французскими фразами, хотя нам было положено презирать Францию и все прочие страны, которые не были с нами в союзе.