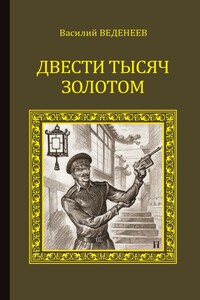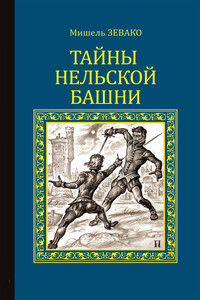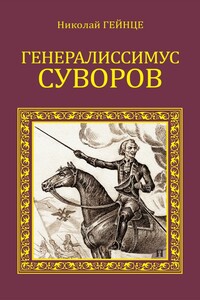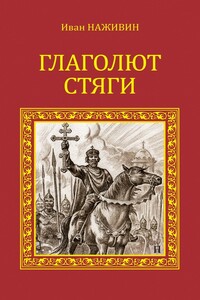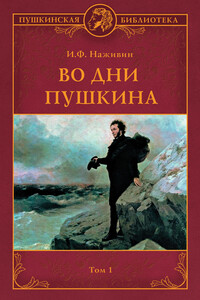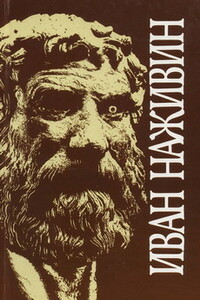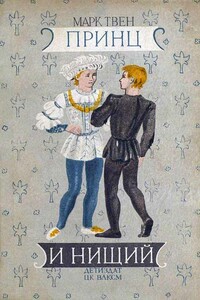Степан Разин | страница 73
И Степан колебался, высматривал, выслушивал, взвешивал и откладывал всякие решения потому, что если он лучше других знал слабость Москвы и весь развал государства, то он лучше других знал и силу московскую, эти ее новые полки, построенные на иноземный лад, во главе которых стояли почти исключительно офицеры-иноземцы. Ведь их, сказывают, до двадцати пяти полков конных будет, рейтаров да драгун, да копейщиков, да попков тридцать пеших… Что же может тут голытьба его сделать?
А с другой стороны, если пособрать сюда силы побольше да ударить по тезикам, тоже игру можно сыграть большую: давно ли Ермак-то Тимофеич со своей голотой Сибирь забрал да челом ею бил царю московскому? Князем Сибирским сделал ведь его Грозный… Можно попробовать разыграть то же и в Персии…
А кроме того, и в казаках полного единодушия нету. Вон, пишут с Дона, Сережке Кривому очень скоро удалось составить себе хорошую станицу и совсем было собрались они выступить в Сечь, как вдруг казаки его закинулись и стали требовать, чтобы Сережка вел их по ельцам Степановым за зипунами… Неверный народ… Сам путем не знает, чего хочет, и крутит и так, и эдак…
И в этом устроении власти и этих колебаниях прошел и месяц, и другой, и среди казаков уже слышался открытый ропот: скоро осень, бури начнутся, морской поход будет невозможен – чего же спит атаман? И чтобы разрядить эти опасные настроения, Степан не раз собирал казачий круг, будто бы посоветоваться, что делать и как быть, но на самом деле на кругу работала небольшая, но сплоченная кучка его ближайших дружков, и то ловко подсказывала кругу нужное решение, а то просто брала криком. И казаки, скребя в затылках, подчинялись и продолжали ворчать. В конце концов, Степан решил побаловать ребятишек и, просидев в Яике три месяца, в сентябре объявил морской поход к изливу Волги. Там, по островам дельты, жили едисанские татары с их князем Алеем. Это были кочевники-магометане, люди совершенно исключительного безобразия: небольшого роста, с желтыми, морщинистыми, старообразными лицами, с отвислым брюхом, они в довершение всего отличались крайней неопрятностью и круглый год ходили в своих бараньих вонючих балахонах. Летом занимались они скотоводством, охотой, рыбной ловлей, а зимой подтягивались к Астрахани и жили в шалашах под городом. И были они в непрестанной и жгучей вражде с калмыками, вытеснившими их из левобережных степей…
И вдруг точно шквал с моря налетел на их улус у Емансуги: в треске и дыму пищалей, в блеске и лязге сабель на них обрушились казаки. Они разграбили все, что можно, – главным образом их прельщали высокие головные уборы татарок, украшенные русскими серебряными монетами, – и взяли большой полон, чтобы продать потом татарву в неволю. Потом обошли они все учуги и, загуляв, на учуге богатого промышленника Ивана Турченина оставили на столе записку: «От атамана Степана Тимофеевича и всего войска донского и яицкого. Были атаманы молодцы на твоем учуге, а на учуге ничего нет. И приказали атаманы молодцы выслать им пятьдесят ведер вина, десять пудов патоки, пятьдесят мехов пшеничной муки да опоки, что серебро льют. А вышли все на Четыре Бугра. А буде не вышлешь, атаманы молодцы хотят оба учуга твои выжечь да и насадам твоим по Волге не ходить. А буде ты, Иван, станешь бити челом воеводе, и ты на нас не пеняй». И с хохотом погрузились и вышли в море и, пограбив какого-то турецкого купчину, весело воротились в Яик зимовать… А на раззоренном улусе князя Алея несколько ночей подряд скулили татарки… Потом все стихло…