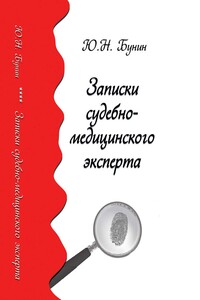Английская лаванда | страница 36
Там, где Клайв изображал из себя выпорхнувшего из девятнадцатого столетия ангела, Мередит оставался по-средневековому ненасытным. В нем было что-то бравое, корабельное, моряцкое. Разоблачаясь из чиновничьей скорлупы, он становился радушным m'laddo с неким налетом импозантности, любящим ячменный отвар и бегущие танцы. Он мог проиграться в карты или сцепиться с гвардейцем, остро чувствуя при этом себя живым.
Нет, он еще найдет правильную жену, светскую да жеманную, приживет с ней кретинистых детей с лицом как крапчатая сметана и умилительными рыжими кудряшками, будет безвылазно пахать за судейской скамьей ради наследства этих олухов, которые, покрывшись козлиным пухом на подбородке, возненавидят его, и, обрюзгший да толстошеий, он станет хвататься за поясницу, беседовать с собаками и читать Диккенса.
Но сегодня ночью он был плясовым. Кельтская кровь кипела в глубоких акведуках вен, побуждала к зрелищным действиям. Так было, когда в экскурсионном рандеву он прознал, будто Эрншо считает свой лик похожим на один барельеф у адмиралтейства, и после тыкал пальцем во всякого барельефного льва на каждом доме, рычал и голосил: «Такой похож? А этот?» В майский семестр, когда они с Клайвом как-то спонтанно сблизились, он, движимый этой же силой, выпил больше всех на пивном фестивале, только бы писануться перед первокурсником. «Что я творю, срамота, для кого рисуюсь, он же крошечный и я знаю его с пеленок», – думал Перси, но в кураже требовал добавки из хмельного бочонка. Возвращаясь с ярмарки, Мередит то и дело нырял в кусты, Клайв чуть не надорвался от смеха. Какая-то пожилая леди проворчала: «Позор будущему нации!», М. огрызнулся вслед: «Именно, дорогая!» Они хохотали до икоты, потом разлеглись на лужайке, там их и сморило. Клайву никогда не требовалось много, чтобы набраться, а победителю пивного конкурса хотелось отдохнуть. Листья клевера кружились в немыслимых бретонских трикселях, вечер прохладил. Они влезли в крапиву и дули на кожу, брызгаясь слюной; слово «харкотина» вызвало новый приступ истерического веселья. Утро никак не желало наступать. Мередит нашел в траве шиллинг. Клайв солгал матери, что они допоздна торчали в синема.
Любой студент мог напиться, в этом не было ничего предосудительного.
После пивного фестиваля они гордились своим стажем:
– Клайв, как давно ты меня любишь?
– Сколько себя помню!
– А я люблю тебя еще с тех пор, как тебя не было на свете!
Можно было ожидать чего-то со страхом и надеждой одновременно? Поцелуя, например. Разве мог Мередит поцеловать друга на лужайке в предрассветный час? Но вот он засуетился и отнял от земли руку, на которую опирался, и склонился над К., бормоча: «Прости, я не могу больше сдерживаться, прости меня…» И, стоило младшему в священном ужасе (и надежде) застыть, с повиновением принять судьбу, зажмуриться, как Мередита стошнило ему прямо на колени. Он и вправду не мог сдерживаться, выпив столько. Кто бы видел тогда гримасы Эрншо, оттиравшего с фланелевых брюк непрошеную братскую блевотину!