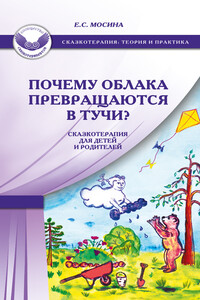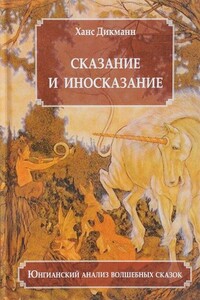Из гусеницы в бабочку. Психологические сказки, притчи, метафоры в индивидуальной и групповой работе | страница 41
Вот он и заплакал.
А тут Алиса рядом оказалась.
– Из-за чего расстраиваешься? – спросила она у брата.
– Учиться не хочу, не интересно! – ответил Ванюша и заплакал пуще прежнего.
– Учиться интересно, – улыбнулась Алиса, – давай покажу!
И начала она из конфет цифры и буквы разные составлять, считать их да слова интересные придумывать. А потом они на разноцветной бумаге буквы и цифры рисовать стали и вырезать их. Так увлеклись дети, что не заметили, как мама с папой пришли.
– Что это вы здесь балуетесь? – спрашивают. – А уроки сделали?
– Сделали, – улыбнулась Алиса и подмигнула брату.
– Сделали, – удивленно сказал Ванюша, – и не заметили как.
И тоже улыбнулся.
И папа с мамой улыбнулись в ответ. Они поняли, что учиться лучше играючи.
– Ну и молодцы же вы! – похвалили детей родители.
И перестали с Ванюшей допоздна за уроками сидеть. А зачем? Он ведь способный. Только со своим способом обучения.
А еще они перестали волноваться за отметки. Так Ванюше и сказали:
– Главное – знания! А ты у нас способный!
И Ванюша спокойнее стал. Учительнице у доски отвечал, как знал. А ошибки с родителями и Алисой дома разбирал.
И оценки у него повысились. Сами собой. Вот чудеса! Он ведь не ради них учится. Ради знаний.
√Об умении находить индивидуальный подход в обучении детей и о расстановке приоритетов в учебе.
Глава 2
Сказки-притчи
В книге «Притчи человечества» (2001) С. Махотина пишет: «С точки зрения литературы притча – это небольшой аллегорический и поучительный рассказ. С философской точки зрения – это история, используемая в качестве иллюстрации (иногда непрямой, парадоксальной, рассчитанной на ее осмысление, додумывание) тех или иных положений учения.
Учителя различных философских школ применяли притчу также для определения ступени сознания учеников и степени их внутренней свободы, поскольку истинное понимание смысла притчи приходит только с освобождением от всяческих стереотипов, шаблонного мышления и формальной логики – с пробуждением непосредственного восприятия и самостоятельного мышления. Расшифровка смысла и символики притчи в большой степени зависит от культурного уровня воспринимающего, и хотя иногда притча сопровождается моралью, эта мораль не исчерпывает, как правило, всей полноты ее смысла, а лишь акцентирует внимание на ее определенных аспектах. Как правило, притча включает в себя не только поверхностный, ситуативный, смысл, легко считываемый сразу, но и несколько пластов глубинного смысла, отличающихся, а иногда и прямо противоположных поверхностному» (с. 5).