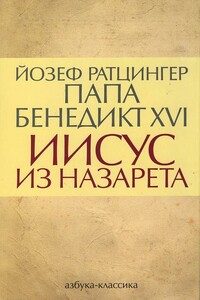Введение в христианство | страница 23
На Востоке этот древнеримский Символ оставался неизвестным. Представители Рима были немало удивлены, когда на Флорентийском соборе (XV в.) они узнали от греков, что Символ, который, как они полагали, восходит к Апостолам, не читается ими.
Восток не сформировал такого единого Символа, потому что ни одна из Церквей никогда не занимала там положения, которое было бы сравнимо с положением Рима на Западе, положением единственной апостольской кафедры во всей западной области. Для Востока всегда оставалось характерным многообразие Символов, которые и по богословскому типу немного отклонялись от римского. Римское (а стало быть и вообще западное) Credo является более четким с точки зрения истории спасения и христологии. Оно остается, так сказать, внутри событий христианской истории; оно просто принимает тот факт, что Бог стал Человеком ради нашего спасения, и не пытается искать за этим событием ответа на вопросы о его основаниях и его связи с целокупностью бытия как такового. Напротив, Восток всегда старался понять христианскую веру в метафизически-космической перспективе. Следы этого в вероисповедании мы находим в соотнесении христологии с учением о творении: в результате исторически однократное тесно связывается с вековечным и всеобъемлющим в творении. Позже мы вернемся к этому и рассмотрим, как этот расширенный взгляд — прежде всего под воздействием работ Тейара де Шардена — начинает сегодня приобретать все большее значение и в западноевропейском сознании.
2. Объем и значение текста
Тот грубый эскиз истории Символа, который я набросал, наталкивает на еще одно небольшое размышление. Даже наш краткий обзор становления текста показывает, что в этом процессе отражается вся напряженность, весь блеск и нищета истории Церкви 1-го тысячелетия. Мне хочется думать, что и это высказывание связано с самой сутью христианской веры и позволяет распознать ее духовное лицо. И все-таки, несмотря на все раздоры, Символ выражает общее основание веры в Триединого Бога. Это ответ на призыв, исходящий от Иисуса из Назарета: «Научите все народы, крестя их». Это — исповедание Христа как близости Богу, Христа как истинного будущего людей. Но в нем уже сказывается и начавшийся раскол между Востоком и Западом; в его истории выявляется то особое положение, которое на Западе занял Рим в качестве форпоста апостольской традиции, и та напряженность, которая возникла в результате для Церкви в целом. Наконец, этот текст в своей нынешней форме выражает вызванную политическими причинами унификацию Церкви на Западе и, стало быть, историю политического использования веры в качестве средства для достижения единства империи. Имея дело с текстом, который был введен в качестве «римского» и, стало быть, навязан Риму извне, мы реально сталкиваемся с тем, как вера вынуждена утверждать свою самостоятельность, пробиваясь сквозь рогатки политических целей. Ответ на призыв из Галилеи, когда этот призыв входит в историю, смешивается со всем человеческим: с частными интересами регионов, с распрями тех, кто призван к единству, с уловками властей мира сего — и все это, как в зеркале, отражается в судьбе текста. Думаю, это важно иметь в виду, потому что вере, как она реально существует в этом мире, присуще также и то, что требуемый ею дерзновенный скачок в бесконечное осуществляется только в человечески измельченных формах; даже здесь, где человек отваживается на величайшее для себя — на скачок через собственные тени к Смыслу, которым он держится в бытии — его деяния не являют собой чистого и благородного величия, а показывают его существом раздвоенным, которое низко в своем величии, но всегда сохраняет и величие в своей низости. Тем самым выявилось нечто весьма важное, а именно: вера связана и должна быть связана с прощением. Она стремится привести человека к признанию того, что он является существом, которое может обрести себя, только непрестанно получая прощение и прощая других, существом, которое во всем лучшем и чистейшем все еще нуждается в прощении. Когда мы разбираем следы, которые человек и все его человеческое оставили в букве Символа, пожалуй, может явиться сомнение: правильно ли строить на этом тексте то введение в основы христианской веры, которое намерен предпринять автор? Не должны ли мы опасаться, что тем самым движемся уже во весьма двусмысленной области? Этот вопрос должен быть поставлен, но тот, кто займется им, убедится, что несмотря на все исторические путаницы, в главном это исповедание представляет собой эхо древнецерковной веры, ядро которой, в свою очередь, есть верное эхо новозаветного благовестия. При этом различие между Востоком и Западом, о котором недавно шла речь, есть всего лишь различие богословских акцентов, а не самой веры. Разумеется, в попытке понимания, о которой у нас идет речь, мы должны обращать внимание на то, чтобы постоянно соотносить целое с Новым Заветом и руководствоваться его целенаправленностью.