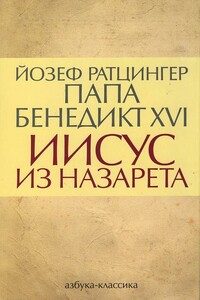Введение в христианство | страница 19
6. Разумность веры
Обдумав все это, мы убедимся, сколь глубоко созвучны первое и последнее слова Символа — «Верую» и «Аминь», сколь тесно объемлют они целостность каждой фразы и указывают тем самым внутреннее место всему, что стоит между ними. В созвучии «Верую» и «Аминь» обнаруживается смысл целого, то духовное движение, о котором идет речь. Мы уже установили, что в еврейском языке слово «аминь» принадлежит тому же корню, из которого исходит и слово «вера». Стало быть «Аминь» по-своему повторяет еще раз то самое, что значит вера: доверчивое вступление на основу, которая поддерживает меня не потому, что я ее сделал и рассчитал, а скорее наоборот, как раз потому, что я ее не сделал и не могу рассчитать. Она выражает предание себя тому, что мы не можем сконструировать да и не нуждаемся в этом — препоручение основе мира как смыслу, который впервые только и открывает мне свободу конструировать.
Однако, то что происходит здесь — действие, а не слепая самоотдача иррациональному. Напротив, — это приближение к «Логосу», к «Рацио», к смыслу и, следовательно, к самой истине, ибо основа, на которой устанавливается человек, не может быть ничем другим, как самой открывающей себя истиной. И здесь-то, где мы менее всего могли бы это предполагать, мы еще раз сталкиваемся с последней антитезой между конструирующим знанием и верой. Мы уже видели, что конструирующее знание, согласно своему собственному устремлению, должно быть позитивистским, должно ограничиваться данным и измеримым. В результате получается так, что оно уже и не спрашивает об истине. Оно добивается успеха как раз благодаря отказу от вопроса о самой истине, благодаря ограничению «правильностью» и «согласованностью» системы, гипотетический набросок которой должен быть оправдан в эксперименте. Иначе говоря, конструирующее знание спрашивает не о вещах, как они суть сами по себе или в себе, а только о том, насколько они могут функционировать для нас. Поворот к конструирующему знанию достигается именно благодаря тому, что бытие более не рассматривается в себе, а только в функциональном отношении к нашему труду. Это означает, что если мы отторгнем проблему истины от бытия и переместим ее в сферу содеянного (factum) или того, что надлежит делать (faciendum), существенно изменится само понятие истины. Вместо истины бытия в себе появилась годность вещи для нас, которая подтверждается правильностью результатов. С этим вполне согласуется и то, что только эта правильность дается нам как вычислимость, тогда как истина самого бытия ускользает от вычисляющего знания.