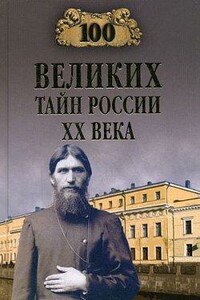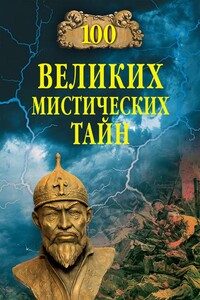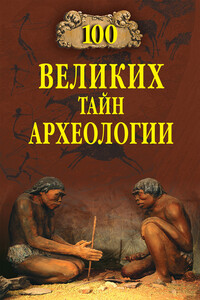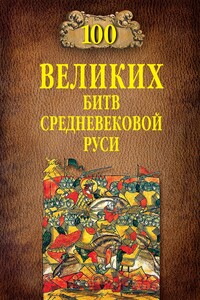100 великих тайн Первой Мировой | страница 49
Ронге утверждал, что и брусиловский прорыв не стал неожиданностью:
«С начала апреля 1916 г. стали поступать повторные сообщения о намечавшемся русском наступлении в Буковине и в Галиции. В середине месяца появилось очень много перебежчиков, подтверждавших сведения о предстоявшем наступлении. 13 мая агентурная разведка с полной определенностью уведомила командование 4-й армии, что и на ее фронте, на участке Картшловка – Корыто, следовало ожидать наступления 8-го и 11-го русских корпусов. В связи с этим 4-й армии была подчинена 13-я ландверная дивизия. 20 мая поступило предостережение о том же от военного атташе в Бухаресте. Ген. Авереску в кругу своих друзей заявил, что, по сообщению румынского военного атташе в Петербурге, „русские в ближайшее время начнут большое наступление, которое должно показать, что германцы напрасно считают их неспособными к наступлению“. К этому времени и наша 7-я армия подготовилась к атаке, хотя имела примерно против семи русских дивизий только шесть дивизий, расположенных южнее Днестра.
Наша агентурная разведка дала группировку сил противника на русском фронте, которая в части, интересовавшей прежде всего австро-венгерские войска, вполне соответствовала действительности, как это впоследствии подтвердили труды русских авторов (Литвинова, Зайончковского, Клембовского, Васильева и Черкасова). Замечены были небольшие переброски войск в целях подготовки наступления, но прибытия новых соединений для образования мощной ударной группы установлено не было. Это объяснялось тем, что новый главнокомандующий юго-западным фронтом ген. Брусилов хотел атаковать всеми наличными силами на всем протяжении фронта. К концу месяца уже не оставалось никаких сомнений в наступательных замыслах противника на фронте Олыка – Тарнополь и южнее Днестра, начало атаки ожидалось с часу на час.
Таким образом, и в этом отношении разведывательная служба полностью выполнила свой долг. На этот раз следовало похвалить и русскую разведывательную службу. 9-я русская армия, использовав кители пленных перебежчиков и, в частности, кадета ландштурма Душана Иозшовича, хорошо выяснила нашу систему укреплений. 7-я армия также была превосходно информирована, как видно было из захваченного донесения начальника штаба ген. Головина. Особенно она рассчитывала на „меньшую стойкость 36-й пех. дивизии, состоявшей преимущественно из славян“».
Ронге вспоминал: «Трудности разведки в России побудили меня организовать с 1 марта 1914 г. секретную школу для особенно одаренных и предназначенных для крупных задач людей. Мелкие разведчики должны были сами приучаться к работе. Я имел в виду также организацию курсов для офицеров, предназначавшихся для разведывательных поездок, но это не было проведено в жизнь». По его мнению, «для разведывательной службы наиболее важны: трезвая оценка и последовательность, знание людей, компетентность в специальности, знакомство с неприятельской организацией и знание языков. Естественность, здравый смысл и осторожность – вот лучшие свойства разведчика. Фальшивые бороды, переодевание и т. п. надо, по возможности, отбросить. Именно естественность является наилучшей „маской“. Когда разведчик отправляется в Италию под видом художника, то бритые усы, большая шляпа, бархатная куртка с небрежно повязанным галстуком и клетчатые панталоны – все это ему мало поможет, если он не умеет рисовать. Если же он умеет, то достаточно будет и обычного штатского костюма. Разумеется, не следует надевать при этом кавалерийских ботфорт со шпорами и носить белье с инициалами „А. Н.“, имея паспорт на имя „Феликса Дурста“».