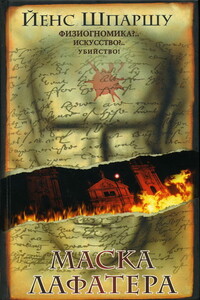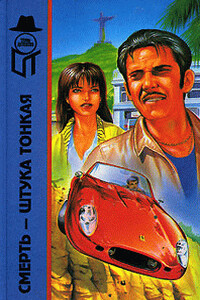По следу Каина | страница 121
– И что же?
– Не нашёл.
– Как так! Он у меня, помнится, в стопке лежал на левой… нет, на правой стороне стола. А вечером я, как обычно, всё в ящик… Ты все ящики глядел?
– Все. Я же вам звонил, прежде чем лезть в них? Забыли?
– Да тут не до этого было!
– В ящиках списка не нашлось.
– Ты внимательно, боец, это дело нешуточное?
– Обижаете, Павел Никифорович.
– Если список пропадёт, с меня Петрович голову снимет!
– Приезжайте, ищите сами, – обиделся я.
– Высылай машину.
– Да вы что!
– Высылай. Я тебе говорю, Игорушкин нас растерзает, если список утрачен будет.
– А какой в этом списке теперь толк? Во-первых, там половина лиц давно значилась умершими. Не думаю, что Семиножкину это было неизвестно. Живых несколько лиц. Мы их допросили. Показания этих людей бесполезные, для дела интереса не представляют. Они в глаза крест архиерейский не видели и о его судьбе ничего не пояснили. У меня сложилось такое мнение, что список этот, составленный, кстати, самим Семиножкиным, ценности никакой не представляет. Даже наоборот.
– Что наоборот?
– Думается мне, что коллекционер специально его составил, чтобы нас или кого-нибудь посерьёзнее за нос поводить. От себя угрозу и подозрения отвести. Ищите, мол, крест у тех людей, а я здесь не при чём.
– Всякий факт, даже отрицательный, для следствия имеет важное значение.
– Вот и прекрасно, что вы согласились.
– Я ещё ничего не сказал, а машину мне высылай.
И он действительно сам заявился в тот день в прокуратуру. Я и корил, и ругал себя, увидев его исхудавшим, бледным, но твёрдо стоявшим на ногах, когда он открыл дверь своего кабинета, в котором я к тому времени устроил настоящий вернисаж: ящики из стола повытащил, на полу их расставил, содержимое тут же рядышком разложил. Было на что поглядеть, но он смотреть не стал, бросился враз к сейфу. Час или полтора длился мучительный концерт. На Федонина больно было смотреть. Он опустошил сейф, выволок всё содержимое наружу, раз за разом одно и то же к глазам подносил, листочек за листочком, каждую папку, каждое дело перелистывал, пыхтел как перегруженный паровоз, вытягивающий бесконечные вагоны в гору. Наконец, обессиленный с взмокшим лицом и безумными глазами, он плюхнулся на стул:
– Всё! Украли список! Пропали мы с тобой, Данила Павлович…
Глава V
Кто его знал или помнил прежнего, на земле перевелись. Так он считал, и не лишены здравого смысла были его убеждения.
Славой авторитетного вора-медвежатника блистал не в этих краях, а у соседей и до войны, а началась она, угодил в Сталинградскую бойню; попав в плен, бежал, а уж у своих был милован и брошен в штрафные батальоны. Здесь молился, как мог, никогда не веровавший, чтобы живым остаться, а если заденет, так сразу, чтобы не мучиться и калекой не мытариться, обузой не быть. И Тот, который наверху, или ещё кто, уже насмотревшись на его страдания, уберегал, щадил первые страшные дни, а через месяц или раньше, поседев как лунь и отдрожав, он и сам устал бояться: не то чтобы верой укрепился, а страх покинул. Проникся одной мыслью, вроде как ударило однажды бессонной ночью перед боем, – никакая молитва по его грешную душу не спасёт; собственная судьба написана не им, а там, наверху, когда и кем неведомо. Ему об этом не узнать, лишь испытать на шкуре. Чего он переживает? И прикипев к этой мысли, заматерев, в каждый бой рвался первым в самый ад, словно смерти искал, а Тот, наверху, насмехался и берёг его ещё неизвестно для каких испытаний или казни. В госпиталях валялся бессчётное число раз, но медвежье здоровье выручало до последнего, пока уже под самой Прагой не угодил он надолго, до самого конца войны на больничную койку. С такими ранениями не выживали: попало ему в голову, в грудь и в ноги – изрешетило всего, дуршлаг для лапши, а не человек. Перемотанный сверху донизу бинтами, словно кокон бабочки, безмолвный, безжизненный, медленно переправлялся на тот свет, временами пятна свежей крови проступали на особо болезных местах сквозь повязки, отмечая этапы приближения неизбежного конца.