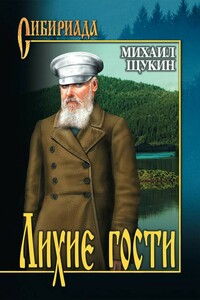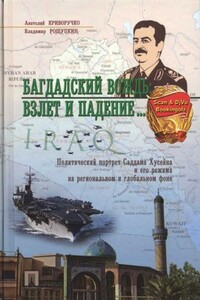Годы, тропы, ружье | страница 47
Настя радовалась вместе с нами, когда мы разложили на полу кухни двух тяжелых, пышных, по-зимнему красивых русаков. Угощала нас чаем. Смеялась над нами:
– Во дворе всякий дурень убьет.
Даже Степан попытался что-то пробунчать себе под нос, защищаясь от ее насмешек. Мы с ним задались целью отомстить ей: замучить ее «самоварами». Сперва сами выпили стаканов по десяти чаю, потом стали незаметно выливать его в лоханку. А когда Настя ставила второй самовар, насыпали ей туда дроби, и самовар не закипал часа полтора. Настя не понимала, в чем тут дело, жгла без конца угли, с негодованием кляла «проклятую посудину». А когда мы сознались, – еще пуще бранила нас, обещая пожаловаться моей матери. Незатейливые наши радости продолжались до самого вечера. В сумерки Степан ушел домой.
На Новый год утром Настя сообщила, что Степана нашли на дне старого колодца мертвым. Он провалился в него, возвращаясь ночью с гумен. Я пошел взглянуть на его тело. Мертвый друг мой лежал еще без гроба, под темной божницей, на сером деревянном столе в своей низенькой избушке. Над ним беззвучно плакал единственный родной ему человек – бабка Федотовна. Теперь Степан походил на взрослого: лежал длинный, тяжелый, опухший, как утопленник. Был он весь в ссадинах, синий, с застывшим ужасом на темном лице. По-видимому, всю ночь он пытался выбраться из глубокого безводного колодца. Упираясь в обледеневшие стены, лез вверх, срывался и падал на дно. Жуткая, бессмысленная смерть!
Вечером я сидел на снежном сугробе у своего двора и смотрел на серые поля. Начинался буран в степи. По полям металась белесая мга, высоко взметывались над сугробами тучи снега. Буря завывала жалобно и надрывисто, будто подавившаяся собака. Тихо подошла ко мне в темноте Настя, обняла меня теплыми руками за шею, прижалась лицом к моей щеке. Я глянул с радостным удивлением в ее глаза: в них поблескивали слезы, но в них же виднелись глубокая теплота и ласка ко мне.
– Настя, кому это надо? Зачем такая смерть? – спросил я юношески наивно.
Девушка, не отвечая, смотрела на меня. Я коснулся губами ее щеки. Она прижалась ко мне еще ближе. Тихая глубокая радость заворошилась во мне, словно пухлый птенец впервые выбежал на солнце.
– Настя, ох и люблю же я тебя!
Минуту она смотрела на меня, потом серьезно, задумчиво протянула:
– Какой же ты дурний!
Поднялась и, повернувшись, тихо пошла во двор, размеренно, раздумчиво переставляя ноги по вязкому глубокому снегу.