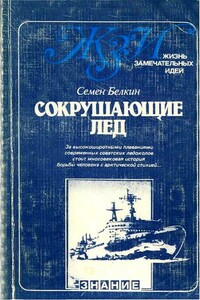По следам бесконечности | страница 67
Существенную роль в формировании Эйнштейна как ученого и мыслителя несомненно сыграл и рано проявившийся интерес к философским проблемам и связанное с этим самостоятельное ознакомление с трудами многих выдающихся философов.
— Я скорее философ, чем физик, — неоднократно говорил Эйнштейн своему ближайшему сотруднику Леопольду Инфельду.
Уже с шестнадцати лет он начал задумываться над вопросом о скорости распространения света, а затем и над результатами опыта Майкельсона.
— Нет сомнения, — писал впоследствии Эйнштейн Бернарду Джеффу, — что опыт Майкельсона оказал значительное влияние на мою работу, поскольку он укрепил мою уверенность в правильности принципа специальной теории относительности. С другой стороны, я был почти полностью убежден в правильности этого принципа еще до того, как узнал об эксперименте и его результате.
Решающим и одним из наиболее плодотворных периодов в жизни Эйнштейна было время, когда, окончив Цюрихский политехникум, он устроился на работу в Берн в качестве технического эксперта патентного бюро.
«Составление патентных формул, — писал он спустя много лет, — было для меня благословением. Оно заставляло много думать о физике и давало для этого повод. Кроме того, практическая профессия — вообще спасение для таких людей, как я: академическое поприще принуждает молодого человека беспрерывно давать научную продукцию, и лишь сильные натуры могут при этом противостоять соблазну поверхностного анализа».
В 1905 году Эйнштейн опубликовал несколько статей в журнале «Анналы физики». В одной из них и была изложена частная, или специальная, теория относительности.
В основу этой теории Эйнштейн положил два фундаментальных постулата: принцип независимости скорости света от движения источника и утверждение о том, что все без исключения физические явления протекают совершенно одинаково во всех системах, движущихся друг относительно друга равномерно и прямолинейно.
Любопытно, что оба этих положения являются обобщением научных фактов, которые были известны и ранее— принципа относительности Галилея[10] и результата опыта Майкельсона.
Факты-то сами по себе были известны, но им придавалось ограниченное значение, и до Эйнштейна никто не решился принять их в качестве основополагающих, универсальных постулатов и построить на этом всеобъемлющую теорию.
Специальная теория относительности — это не только теория быстрых движений, позволяющая рассчитывать явления, происходящие при околосветовых скоростях. Это, по существу, принципиально новый взгляд на мир, резко отличающийся от классических представлений.