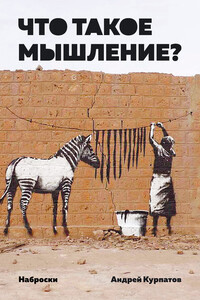Пространство мышления. Соображения | страница 91
Собственно, здесь нам и открываются предельно сложные отношения «дефолт-системы мозга», ответственной за поддержание в нашей голове всей матрицы наших социальных отношений и зон «префронтальной коры», ответственных за осознанное и целенаправленное «торможение» [© А. Р. Лурия][76]. Очевидно, что для этого потребуются колоссальные интеллектуальные усилия и для того, чтобы удалить с сервера «других людей», его исконно занимающих, и для того, чтобы ввести соответствующие интеллектуальные объекты в состояние «специальных объектов».
Что касается «дефолт-системы мозга», то у нас она заселена нашими представлениями о «других людях», а вовсе не «специальными объектами». Впрочем, это, надо полагать, результат интроекции мира интеллектуальной функции. Тогда как эволюционно она, судя по всему, приспособлена как раз к неопределенности: если ее задача в природе заключается в постоянном сканировании социального пространства – реального поведения наших сородичей (сигналов, от них исходящих), а не прокручиванием замкнутых на самих себя нарративов (наших представлений о других людях), то место для неизвестного, для того самого «х», в ней за каждым элементом предусмотрено.
Мир интеллектуальной функции, продолжая ту же компьютерную аналогию, инсталлирован на структуры «дефолт-системы мозга» человека, тогда как у животных она никакая не «дефолтная», а как раз активная система сканирования наличной действительности. У человека же она включается именно тогда, когда мы ни о чем целенаправленно не думаем. Может быть, именно поэтому озадаченное мышление, по крайней мере феноменологически, действительно представляется нам чрезвычайно странным состоянием. Это вовсе не то же самое, что сидеть и считать в столбик или разбираться в том, что значит тот или иной термин, используемый автором какой-нибудь научной монографии. Это состояние, которое можно назвать «сосредоточенной растерянностью», или, еще точнее, «растерянной сосредоточенностью».
Так или иначе, но для того чтобы оказаться в состоянии озадаченности, решая проблемы, не связанные напрямую с нашими социальными отношениями (как, например, та, которую сейчас решаю я, пытаясь удерживать в себе «специальные объекты», необходимые для понимания «пространства мышления»), мы должны использовать тормозные функции префронтальной коры. Они необходимы нам для того, чтобы зачистить пространство мышления от «других людей» (по крайней мере, временно превращая их из «специальных объектов» в своего рода предметы с функциями), а также – отсепарировать искомые интеллектуальные объекты от опутывающих их нарративов, втолкнуть в них неизвестное «х», превратив их тем самым в «специальные объекты». Собственно это и есть озадаченность, а дальше уже начинается работа интеллектуальной функции, которую мы не контролируем сознательно – она просто обеспечивает непосредственную работу этого нашего «сервера».