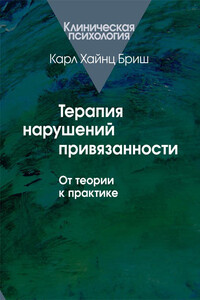Теория привязанности и воспитание счастливых людей | страница 35
Этот тип нарушения привязанности действительно чаще всего встречается у детей, выросших в атмосфере полного к ним безразличия. В этих случаях необходимы как можно более ранняя психотерапия, соответствующая возрасту ребенка, и иная среда, в которой у него может постепенно сформироваться надежный тип привязанности. А значит, для спасения этих детей нужно усыновление или какая-то форма опеки, позволяющая ребенку жить в семье.
Четырехлетнюю Наташу удочерили, когда ей было 15 месяцев. До этого она жила в доме ребенка.
Сегодня мама первый раз привела ее в детский сад. Наташа быстро забирается на колени сначала к одной, затем к другой воспитательнице, целует их и спрашивает по очереди: «Теперь ты моя мама?» Она ведет себя в саду так же раскованно, как и дома. Бросается в глаза прежде всего то, насколько легко Наташа нарушает дистанцию при общении с людьми и проявляет готовность прижиматься к любому взрослому человеку без разбора, даже если она его в первый раз видит. Ни страх, ни волнение внешне никак не проявляются, словно она их не испытывает.
Для детей с недифференцированным типом нарушения привязанности это поведение совершенно типично. Для того чтобы у Наташи сформировался надежный тип привязанности, необходима интенсивная игровая терапия, а также консультирование и психологическое сопровождение ее приемных родителей. В этих условиях шансы на возникновение специфических, прочных эмоциональных связей с родителями достаточно высоки. Впоследствии можно было бы прогнозировать, что расставание с приемной мамой уже не будет столь «безоблачным», а одной из воспитательниц девочка будет оказывать явное предпочтение. Естественно, крайне важно объяснить и маме, и воспитателям в детском саду, что возникновение определенных сложностей, таких как протест при расставании по утрам, – это неотъемлемая, позитивная часть процесса развития, ведущего к установлению отношений привязанности. Маме и воспитательницам также нужно будет рассказать, что прочные эмоциональные связи с ребенком нередко более «утомительны», чем их полное отсутствие. В то же время эти изменения можно рассматривать как безусловное достижение и своего рода заслугу взрослых, поскольку они являются явным признаком перелома ситуации в лучшую сторону.
2. Отказ от проявлений привязанности
Дети, с младенческого возраста подвергающиеся насилию со стороны близких людей, не могут искать у них утешения и поддержки, даже если им страшно или грустно. Мы видим маленьких детей, которые стоят в слезах перед своими родителями, напуганные лаем собаки; они горестно плачут, но не подходят к маме или папе, не бросаются к ним на колени, чтобы успокоиться. Совершенно очевидно, что ребенок, испугавшийся собаки, нуждается в утешении и защите, но он не идет ни к кому из близких, потому что прежний опыт их взаимоотношений также наполнен страхом и тревогой. Дети, подвергавшиеся насилию, как правило, вообще лишены опыта близких эмоциональных отношений, им неведомо, что в минуты страха и отчаяния кто-то может прийти им на помощь: вместо объятий, сочувствия, попыток отвлечь и утешить они ожидают приступов ярости, обвинений, неприятия и оскорблений вплоть до суровых физических наказаний. Жизненная ситуация этих детей представляет собой дилемму: они боятся взрослого, который наиболее близок к ним, и часто живут в постоянном страхе, поэтому они неосознанно находятся в поиске «настоящего» близкого человека. Но поскольку такого человека рядом нет, они патологическим образом привязываются к тому, кто представляет для них угрозу. Этому своеобразному процессу развития эмоциональных связей я дал название