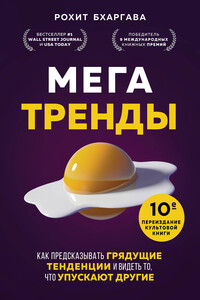Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху | страница 69
При том, что Лютер хотел восстановить чувство личной веры в духе святого Павла, он также намеревался завязать тяжкий спор о власти. Лютер настаивал на том, что наши отношения с Богом – это отношения наши, и не чьи-либо еще. Это не то, о чем можно договориться, и уж точно не то, чем можно торговать. Это не требует роскошных одеяний и соборов или золотых скипетров. Для Лютера первое осознание близости Бога явилось предвестием глубокого духовного кризиса. Оно перечеркнуло все, что он знал о власти. В свои дальнейшие годы он вспоминал об одном моменте 1508 года, когда во время изучения трудов Аврелия Августина он почувствовал возможность непосредственной связи с Богом. «Когда я произнес слова: «О милостливый отец!» – писал он, – мысль о том, что я могу говорить с Богом без посредника, привела меня в несказанный ужас и обратила в трепет». Кто он такой, Мартин Лютер, чтобы говорить напрямую с Богом? С тех пор опыт Лютера с Богом, его заключение о том, что сила проходит через личную веру от человека к человеку, а не через веру в деньги, из денег – в церкви, а из церквей – обратно в веру, – заключение это явилось воплощением еретического взгляда на силу: Откровение доступно и без посредника.
Эта концепция обесценила многие предыдущие доктринальные постановления. Церковь моментально почувствовала угрозу. Она поспешно заклеймила Лютера как еретика, а затем – как умалишенного. Отстаивая то, что католическая церковь со всеми ее завораживающими ловушками веры была не более чем бесполезным заведением, основная специализация которого состояла в поборах, Лютер также пытался найти ответ на вопрос: «Как лучше распределять власть?» Если Лютер был прав, и Бог действительно стремился сделать веру настолько доступной для нас, то поверх этого нагромождались новые вопросы. Можно ли нам иметь прямой доступ к политической власти? К идеологии? К деньгам, земле и контролю над собственным экономическим состоянием? Можно ли утверждение «от человека к человеку» интерпретировать как «от от идеи к идее», «от правды к правде» или – и это покажется еще более смелым – «от гражданина к гражданину»? Церковь была лишь одним из многих институтов, восседавших прочно, надежно, комфортно (и жадно) между людьми и властью.
Лютер, позже выяснилось, был не один. Началась эра трудных вопросов и ответов. Польский астроном Николай Коперник, например, опередил Лютера на несколько десятков лет со своим собственным набором новейших идей. «Те, кто знают, что долгие столетия имела право на существование идея о том, что Земля, находясь в состоянии покоя, является центром Вселенной… сочтут меня сумасшедшим, если я скажу, что это не так», – писал он. Макиавелли, Галилей, Эразм и многие другие мыслители трудились с тем же вопрошающим настроем. Их «сумасшедшие» заявления, находя подтверждение, открывали дорогу к еще большим открытиям. Началось Просвещение. Старые центры власти вели себя как ни в чем не бывало; возможно, искренне веря, что менять ничего не имеет смысла. «Этот собор объявляет, что любой несогласный с его положениями будет проклят», – убедительно провозгласила католическая церковь на Тридентском соборе в 1547 году в ответ на реформаторские взгляды Лютера. Но пути назад уже не было. Как написал немецкий философ Иммануил Кант, девиз эпохи можно было представить таким: «Имей мужество пользоваться собственным умом!» «Просвещение, – писал он, – не требует ничего, кроме свободы».