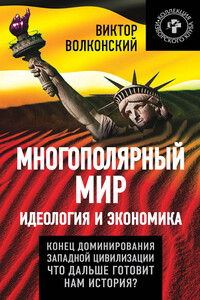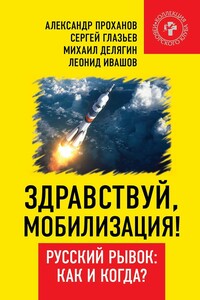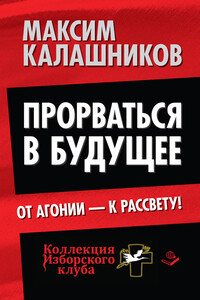Глобальные элиты в схватке с Россией | страница 96
От Второй Мировой до Brexita. «Ось Лондон-Пекин»?
Brexit образца 23 июня 2016 года, если рассматривать его с этой точки зрения, – никакая не сенсация, а «дважды два четыре» традиционной британской политики. После Первой, а особенно – после Второй мировой войны Соединенное Королевство уступило лидерство на мировой арене своей бывшей колонии, Соединенным Штатам, добившись статуса их «привилегированного партнёра». При этом фунт стерлингов уступил роль «всемирной валюты» американскому доллару. До сих пор достоверно неизвестно, какое участие в создании и в последующей деятельности Федерального Резерва США приняли многоопытные британские политики, финансисты, однако факт остаётся фактом: «чистая» внешняя задолженность США (по состоянию на конец 1913 г. – почти в 3 млрд. долл.), к моменту завершения военных действий в ноябре 1918 г. превратилась в кредиты на сумму свыше 9,5 млрд. долл., тогда еще – золотых (в 1$ содержание золота составляло 1,50463 грамма). Только Великобритания оказалась должна США 5,5 млрд. долл. Да, уже после Первой мировой войны начался распад Британской империи, в которой не только было создано, благодаря поддержке ирландского лобби США, Ирландское свободное государство с правами доминиона (1922), но и сами доминионы на Имперской конференции 1923 года получили право вести самостоятельную внешнюю политику, а через три года на аналогичном мероприятии, после принятия «декларации Бальфура», – фактически полный суверенитет, но с признанием британского монарха номинальным главой государства в рамках Британского содружества наций. В 1936 году формальную политическую независимость получили такие «подмандатные территории» Великобритании, как Египет и Ирак. После Второй мировой войны процесс деколонизации приобрёл по-настоящему взрывной характер, поскольку в этом были заинтересованы и США, и Советский Союз, а Великобритании оставалось только «спасать то, что можно спасти». Для этого, конечно, нужно было всячески усилить конфронтацию между Вашингтоном и Москвой, чем и занимался Лондон еще с самого начала Второй мировой войны. Разумеется, в форме максимального сближения с Америкой, поскольку «дядя Сэм», в отличие от «дядюшки Джо» (И. В. Сталина), в принципе не покушался на основы общественного строя, созданного британскими элитами, на их право обладать властью и собственностью.
Даже во время Второй мировой войны, когда Великобритания заявила о том, что является союзником Советского Союза в борьбе против гитлеровского Третьего рейха, её руководство, включая премьер-министра Уинстона Черчилля действовало в полном соответствии со словами американского сенатора от штата Миссури Гарри Трумэна, впоследствии – 33-го президента США: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше». Наверное, самым трагическим эпизодом, связанным с этой политикой, было решение Черчилля не открывать Второй фронт в Европе в 1942 году, которое было доведено до Гитлера и позволило ему перебросить на Восток около 30 дивизий из Франции, что стало одной из причин летней катастрофы Красной Армии и выхода вермахта к Волге и на Северный Кавказ. Потом Черчилль воспевал героизм защитников Сталинграда, в честь Сталинградской битвы королю Георгу VI пришлось заказать специальный меч, – конечно, вполне достойная компенсация за миллионы потерянных жизней советских граждан и мучения десятков миллионов под нацистской оккупацией, за разрушенные города, села, заводы и фабрики. Впрочем, сразу после окончания войны тот же Черчилль намеревался начать войну против Советского Союза – при помощи оставшихся немецких дивизий (операция «Немыслимое»). Его Фултонская речь от 5 марта 1946 года считается началом «холодной войны» против Советского Союза. И дело здесь не в какой-то особой злокозненности сэра Уинстона – так мыслит и так действует практически вся британская элита. Да и не только элита – недаром же «сэра Уинстона» его соотечественники в 2002 году назвали «величайшим британцем в истории», так сказать – наиболее полным выразителем «британского духа».