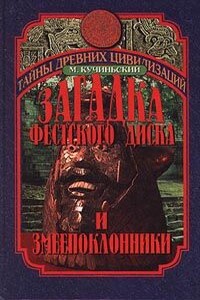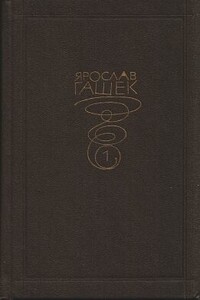Глобальные элиты в схватке с Россией | страница 78
Эпилог растянулся на десятилетия. Отдельные судорожные усилия вернуть потерянное, вроде резких демаршей де Голля, были, скорее, фантомными болями. Европа ускоренным темпом вживалась в обе роли в ею же созданном и настигшем её, как бумеранг, западно-восточном сценарии. По сути, это были её проекции-придатки: сотворённая пуританами Америка и почти одновременно волею Петра просветительски обустроенная Россия. Ей и в дурном сне не приснилось бы, что придатки станут однажды големами. Она задавала тон и оставалась местом свершения мировой истории. Но уже на последних шедеврах её политического гения, Венском и Берлинском конгрессах, открывающих и завершающих XIX век, почила печать усталости и близкого конца. Последним (самоубийственным) триумфом её стал Версаль, где француз Клемансо мог ещё, не без сценических эффектов, унижать немецкую делегацию и игнорировать американского президента.
Через считанные десятилетия, в Ялте и Потсдаме, моделирующих новый мир, ей вообще не нашлось места среди инсталляторов. Перестройка Европы без участия Европы производила странное впечатление, и чтобы замять неловкость, пришлось подгонять Францию под роль победительницы. Говорят, Кейтель, увидев французов во время подписания акта о капитуляции, не мог скрыть удивления: «Как! Мы и этим проиграли?» Всё это были, впрочем, рецидивы прошлого, бесследно исчезнувшие в шуме и ярости студенческого 1968 года.
Если, фиксируя нынешнее обострение болезни, спросить, с какого момента она стала необратимой, можно будет без колебаний указать на упомянутый 1968 год. Европейская (по существу, любая) история редко обходилась без безрассудства, но пружина, растягиваемая подчас до критической черты, за которой она переставала быть пружиной, всегда возвращалась обратно, пусть даже и не столь упругой и эластичной, как прежде. Особенно опасными были переходные времена смены социальных гегемонов, или типов: скажем, прежнего аристократического новым буржуазным в период революций и цареубийств Нового времени или буржуазного пролетарским в первой половине XX века. Этот последний переход, казалось бы, транспарировал оттенками невменяемого, но даже здесь, при всех отдельных деформациях и аномалиях, всё же удалось сохранить идентичность.
Когда потом взбунтовался студент-революционер, этот бунт знаменательным образом совпал по времени с революцией физика-технаря. Оба работали раздельно и делали общее дело. Они меняли мир, мировую историю и душу – до последнего предела, до дальше некуда и – ещё дальше. Всё – за пределами представимого и в режиме необратимости. Физик электрифицировал Вселенную, перенося её из прежнего патриархального тандема времени и пространства в небывалую онтологию сетевых графиков и скоростей, а оттуда прямо в быт, где ошарашенному обывателю оставалось спешно переселяться в мир волшебных сказок. Изменялись не только восприятия, но и привычки, и счёт пошёл уже не на столетия, а на десятилетия, если не годы, – факт, запечатлённый Андре Мальро в словах: «Цезарь мог общаться с Наполеоном, но Наполеону нечего было бы сказать президенту Джонсону».