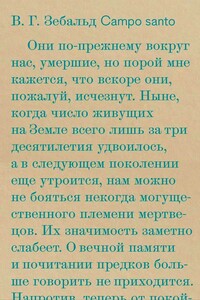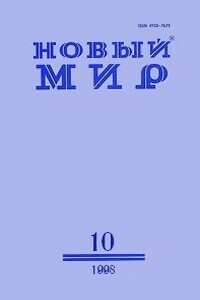Аустерлиц | страница 31
годы, которые мы оставили позади, все еще в будущем, и я помню, сказал Аустерлиц, что когда мы стояли с Эшмэном в бильярдной Айвер-Гроув, Хилари обронил замечание по поводу того странного смятения чувств, которое охватывает даже историка в пространстве, так долго остававшемся отрезанным от течения часов и дней, равно как и от смены поколений. Эшмэн ответил на это, что он сам, в 1941 году, когда дом реквизировали, замаскировал щитами двери в бильярдную и детские на верхнем этаже, а когда потом, осенью 1951 или 1952 года, эти ширмы, к которым были еще придвинуты платяные шкафы, сняли и он впервые за десять лет снова ступил в свою детскую комнату, то в эту минуту, сказал Эшмэн, он чуть не лишился рассудка. Стоило ему увидеть железную дорогу с вагончиками «Грейт Вестерн Рэйлвэй» и ковчег, из которого выглядывало несколько стойких зверушек, спасшихся от потопа, ему почудилось, будто пред ним разверзлась бездна времени, а когда он провел пальцем по длинному ряду зарубок, которые он, в возрасте восьми лет, не в силах совладать с бушевавшей в нем тихой яростью, собственноручно вырезал на торце ночного столика накануне его отправки в подготовительную школу, — от этих зарубок в нем поднялась та же самая ярость, и он, не ведая, что творит, выскочил во двор, схватил ружье и принялся палить по часам на башенке каретного сарая, расстреляв немало патронов, — следы от пуль по сей день видны на циферблате. Эшмэн и Хилари, Айвер-Гроув и Андромеда-Лодж, о чем бы я ни думал, сказал Аустерлиц, когда мы, ступая по темнеющей на глазах траве, спускались по склону парка навстречу засиявшему огнями полукружию лежащего перед нами города, — все это вызывает во мне ощущение отъединенности и бесприютности. Кажется, это было в начале 1957 года, продолжил Аустерлиц безо всякой связи через некоторое время, — перед самой моей поездкой в Париж, где я собирался продолжить мои изыскания по истории строительства, начатые за год до того в Курто-Институте, — я в последний раз побывал у Фицпатриков в Бармуте, куда я приехал на двойные похороны: дядюшки Эвелина и дедушки Альфонсо, которые умерли с разницей чуть ли не в один день, Альфонсо — от удара, когда собирал свои любимые яблоки в саду, Эвелин — скрючившись от страха и муки в своей ледяной постели. Осенний туман заполнил всю долину в то утро, когда хоронили этих двух таких разных людей: прожившего в вечном разладе с собой и миром Эвелина и осененного благодатью безмятежности Альфонсо. В тот момент, когда похоронная процессия двинулась в сторону кладбища Кутиау, сквозь дымку над Маутахом пробилось солнце и легкий бриз чуть тронул берега. Несколько темных фигур, группа тополей, просвет над водой, темный силуэт Кайдар-Идриса на другой стороне — вот и все детали сцены прощания, которые я странным образом снова обнаружил несколько недель тому назад, когда смотрел на один из акварельных набросков Тёрнера, на которых художник часто запечатлевал на скорую руку то, что представало перед его глазами, либо сразу на месте, либо позднее, озирая картины прошлого. Этот почти беспредметный, воздушный рисунок, носящий название «Похороны в Лозанне», датирован 1841 годом, то есть создан в то время, когда Тёрнер почти не мог уже путешествовать и все более и более сосредоточивался на мысли о собственной смертности, чем и объясняется, видимо, то, что он, едва только в памяти возникало нечто