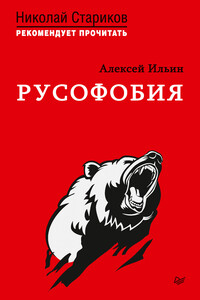Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций | страница 36
В потребительском обществе прослеживается все меньшая социальная консолидированность. Профсоюзное движение существует лишь формально. Политическая оппозиция настолько разобщена, что инвестировать чаяния в ее силу и мощь не представляется возможным. Конечно, нет такой формы идентичности — оппозиционер. Оппозиция — это мозаика разных структур, дискурсов, точек зрения и действий, которые не просто отличны друг от друга, а зачастую находятся в непримиримых противоречиях, поэтому она априори самоотдалена. Но внутренняя са-моотдаленность оппозиции объясняется не только идейными противоречиями, не только разобщенностью перед избирательной урной. Часто говорят о таком факторе, как фатализм, выражаемый грустными словами «что бы мы ни делали, все равно ничего не получится». Еще один из важных факторов — утрата доверия людей друг к другу, которая не позволяет даже абсолютным единомышленникам сплотиться в единый сильный союз. Это недоверие появилось вследствие потребительской культуры индивидуализма, социал-дарвинистские общественно-фрагментирующие ценности которой вместе с перестройкой стали активно и даже агрессивно внедряться в общественное сознание.
Индивидуализм, деконсолидированность, мещанство, аутореферентность как проявляющиеся на всем общественном поле тенденции имеют связь с осознанием тщетности попыток в коллективных действиях, с разубежденностью в возможности оказывать совместное влияние на глобальные процессы и важные политические решения, с невидимостью связи между коллективной активностью и серьезными изменениями в экономике и политике, с трудностью адаптироваться к возрастающей неопределенности, в общем, с фатализмом, переводящем внимание с коллективистских акцентов на индивидуалистические и вытесняющем из сознания само существование глобальных проблем и архиважных решений. Если люди повергли себя в фатализм, они не смогут консолидироваться против чего-то или за что-то, поскольку коллективное действие как проявление волевой решительности предполагает в качестве своей основы определенное выраженное в идеологии стремление, очищенное от сомнений разума, а когда стремления нет, действию вырасти не из чего. Если они принимают невозможность влиять на определяющие их жизнь события за истину, она становится истиной. Людей уже не интересуют глобальные проекты, ставящие перед собой в качестве цели не столько избавление от насущных проблем, сколько построение абстрактного общества будущего в долгосрочной временной перспективе. Для реализации такого проекта необходимо коллективное действие, которое отсутствует не только потому, что люди потеряли веру в коллективизм, но и потому, что они потеряли веру в проекты. Консолидация на основе общих интересов не представляется методом реализации собственных интересов, а скорее наоборот, видится как условие ограничения индивидуальной свободы и потери личного времени. Если исходить из схемы, согласно которой мотивация зависит от умножения ожидания результата на его ценность (формула М = О × Ц), следует сказать, что при разговорах о консолидации и солидаризации хромает как ожидание, так и ценность, поскольку результат одновременно представляется невозможным по части достижимости и не сильно нужным или просто при его достижении цель не оправдает средств, и он окажется слишком дорогостоящим, а значит, и не ценным. Соответственно, мотивации к коллективности нет. Публичное пространство заполняется не общественным и политическим дискурсом, а дискурсом интимности личной жизни и мелких бытовых забот.