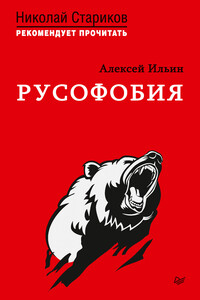Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций | страница 25
В густонаселенном районе, где каждого человека окружают тысячи людей и где отсутствует фактор личных знакомств, свой социальный статус можно обозначить через демонстративное потребление. Соответственно, в крупных городах трата на видимый образ жизни значительно выше, чем в сельской местности, и в большей степени развита экономия на скрытый образ жизни. Нет смысла тратить много денег на товары, которые не предстанут перед широкой публикой. Помимо прочего, горожане подвержены влиянию моды и рекламы в значительно большей степени, чем сельчане, ибо современный город представляет собой огромное медиа-пространство, в котором соседствуют совершенно разные рекламные бренды и торговые знаки.
Исходя из многих примеров, целесообразно сделать вывод о том, что символизм и знаковость потребительства, воплощенные в потребности отличиться от других, указывают не на достойность отличий, а на безвкусие человека, которого прельщает такой образ жизни. Если существуют массовые способы подчеркивания отличий, то благодаря массовости они становятся подчеркиванием сходств. Поэтому крайне парадоксально звучит фраза опрошенных подростков о том, что джинсы дают «свободу быть самим собой», равно как и убеждение в том, что индивидуальность выражается фирменным знаком на своей одежде. Следование такой моде говорит об отсутствии персонального вкуса и о стремлении ценить не сами предметы потребления, не их эстетический смысл, а всего лишь их социальную знаковость. В таких тенденциях нет места субъектности. Культ различий, в соответствии с которым потребитель стремится выделиться, появился внутри массового производства. Однако даже если человек действительно выделяется из основной массы, например, обладанием дорогих одежд от кутюр (что далеко не каждый в состоянии себе позволить), этот факт нисколько не выводит его за рамки сложившейся унифицирующей системы, а скорее, наоборот, указывает на еще более глубокую интеграцию в нее. Стоит вести речь о некоем вторичном обществе потребления, мире подержанных и фальсифицированных товаров, которые выступают ложными образцами «настоящих» товаров. Это вторичное сообщество предлагает игру по правилам потребительства тем, кто ограничен в своей платежеспособности. Это периферийная и суррогатная зона общества потребления, представители которой как бы стирают грань между собой и тем гламурным меньшинством, которое живет в «действительном» обществе потребления. Но стирают лишь «как бы», на уровне видимости. Хотя, конечно, не стоит разделять «настоящее» потребительство и его «суррогатную» область, поскольку оно в любом случае выступает суррогатом действительных культурных образцов.