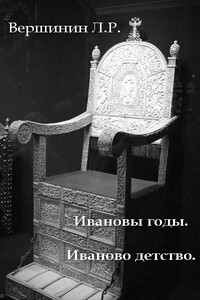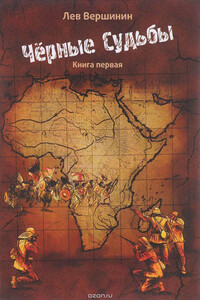Евромайдан. Кто уничтожил Украину? | страница 18
Что же до политики, то как хотите, но для меня совершенно несомненно: Выговский, против своей воли оказавшись среди мятежников, хоть и оценил по достоинству выгодные аспекты сложившейся ситуации, своим статусом «бунтовщика» тяготился, считая идеальным вариантом завершения войны признание конфликта гражданским и почетного примирения. И в этом, несомненно, полностью сходился с Хмельницким, до последней возможности делавшим максимум для того, чтобы заставить элиту Речи Посполитой перейти от «двуединой» федеративной системы к «триединству», а старт «московскому проекту» дал лишь после Батога. Когда стало ясно, что война пошла на уничтожение, а сам он для поляков стал даже не врагом номер один, а воплощением зла, причем на многие поколения вперед. У Выговского такого ограничителя не имелось. Он, напротив, был своего рода «жертвой жестоких обстоятельств», так что говорить с поляками мог безо всяких предубеждений. И, несомненно, говорил. Скорее всего, с ведома Хмельницкого. Имея для этого, как руководитель не только дипломатического ведомства, но и разведки, во все времена тесно связанной с дипломатией, массу возможностей как официальных, так и не совсем и совсем не. Говорил, скорее всего, о том, что «домашняя война» – трагедия для всей семьи, что судьба Руси (что такое Украина, он знать не знал) на западе, а не на востоке. Не в варварской, то есть Москве, где самый обычный «рокош» против царя считается государственным преступлением, где у хлопов есть какие-то права и даже у бояр совершенно нет секса. Короче говоря, ни о каких намерениях «изменить русскому царю» речи быть не может, поскольку Иван Евстафьевич клятву, по воле обстоятельств и гетмана данную в Переяславе, действительной, безусловно, не считал. Тем паче что Москва сквалыжничала: новый гетман, приняв булаву, по-человечески попросил Царя-батюшку дать сколько-то имений в России, а сквалыжная Дума, хотя просьбу уважила, но не в той мере, в какой хотелось челобитчику. Так что, подписывая известный договор в Гадяче, возвращающий мятежную Малую Русь «под корону», умница «на тот час гетман» имел все основания гордиться собой.
В самом деле, если политика – искусство возможного, а он, по сути, сумел сделать то, чего не удалось и Хмельницкому на пике успехов – выторговал у Речи Посполитой не просто максимум возможного, но даже сверх того. Шляхта получала реституцию имений, но и казачество приобретало право на землю, а старшина сохраняла имения, взятые по праву войны. Католикам дозволялось жить на территории Малой Руси, но униатство и миссионерство запрещались напрочь, а православная церковь уравнивалась в правах с католической (и, зная хватку святых отцов, можно уверенно утверждать, что сильно разгуляться «папежникам» бы не дали). Территория, подведомственная гетману, вновь возвращалась в границы, очерченные в Зборове, что перечеркивало позорный Белоцерковский пакт, восстанавливая утраченное Хмельницким. Самое же главное (на это мало кто обращает внимание, а зря), «Великое Княжество Русское», о котором идет речь в документе, это не какая-то расплывчатая, существующая лишь de facto «Гетманщина». Это статус, писаный, признанный, реальный и легитимный. Сильно поумнев, Варшава дает «добро» на то, что раньше категорически исключала, признавая, что отныне Речь Посполитая может существовать только в качестве уже не двуединой, а триединой федерации, одна из составных частей которой исповедует православие. Более того, само понятие «княжество» подразумевает сословную реформу. Раз есть «князь» (по факту им, как и князем литовским, становится пан круль), то есть и соответствующая социальная структура. Проще говоря, казаки наконец-то обретают легитимный статус, из непонятно кого становясь дворянами, той самой православной шляхтой, которой раньше быть не могли по определению. Конечно, идеала не бывает, крестьянство, например, проигрывало по всем статьям, оказываясь не просто в положении «до событий», а в гораздо худшем. Но интересы «быдла» старшина, в том числе и Хмельницкий, в счет не брали никогда, а казаки как раз от этого пункта выигрывали, вместе со шляхетством получая и крепостных. В общем, Выговский совсем не зря держал его до времени в секрете от «народных масс», позволив огласить только в критический момент – на роковой для себя Гармановской Раде, как джокер, перебивающий все козыри. Однако просчитался, и без ответа на вопрос «почему» двигаться дальше не получится.