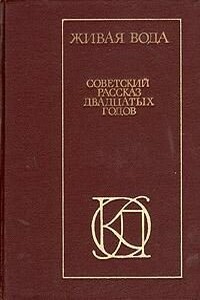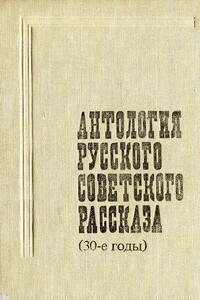Советский русский рассказ 20-х годов | страница 52
Он вытянулся на земле, двигая красными рубцами век, чмокая, потом сказал:
— Ну-ко, буду спать… Закутал голову армяком и умолк.
Проснулся он на рассвете, взглянул в облачное небо и торопливо сбежал к ручью, там разделся донага, кряхтя, вымыл свое крепкое, коричневое тело с ног до головы и закричал мне:
— Эй, дружба, дай-кось мне рубаху и порты, там в землянке лежат…
Одев длинную — до колен — белую рубаху и синие портки, он причесал деревянным гребнем мокрые волосы и, почти благообразный, отдаленно напоминая какую-то икону, сказал:
— Я всегда чисто моюсь перед тем, как народ принять. За чаем он отказался выпить водки.
— Нельзя! И есть не буду, только чайку выпью. Надо, чтоб ничего в голову не бросалось, чтоб легко было. В этом деле большая легкость души нужна…
Народ начал приходить после полудня, но до этого времени старик вел себя молчаливо и скучно. Его живые, веселые глаза смотрели сосредоточенно, в движениях явилась степенность. Он часто поглядывал в небо, прислушивался к шороху легкого ветра, лицо его вытянулось, стало еще более уродливо, и рот искривился почти болезненно.
— Идет кто-то, — вдруг тихо сказал он.
Я ничего не слышал.
— Идут. Бабы. Ты, дружба, вот что: ты не говори ни с кем, не мешай, — испугаешь! Ты где-нибудь в сторонке живи. Тихо.
Из кустов бесшумно вылезли две бабы: одна дородная, средних лет, с кроткими глазами лошади, другая молоденькая, с чахоточным, серым лицом, обе они испуганно уставились на меня, — я ушел вверх по склону оврага и слышал слова старика:
— Ничего, он — не помеха нам. Он — блаженненький, ему все равно, не вникает в дела наши…
Надломленным голосом, покашливая, присвистывая, торопливо и обиженно, заговорила молодая баба, подруга ее негромко, густыми звуками вставляла в ее речь краткие слова, а Савелий сочувственно, не своим голосом восклицал:
— Так-так-так! Ай-яй-яй? Экие, какие, а?
Баба тонко заплакала — тогда старик певуче протянул:
— Милая, ты — погоди, перестань, ты послушай…
Мне показалось, что голос его потерял сиповатость, звучит выше и чище, а мелодия слов странно напомнила незатейливую песенку щегленка. Я видел сквозь сетку ветвей, что он, наклоняясь к женщине, говорит ей прямо в лицо, а она, неудобно сидя рядом с ним, широко открыла глаза, прижав ладони ко груди своей. Подруга ее, склонив голову набок, покачивала ею.
— Тебя обидели — бога обидели! — громко говорил старик, и бодрый, почти веселый тон этих слов явно не ладил со смыслом их. — Бог-то — где? В душе твоей, за грудями твоими живет свят дух господень, а они дураки, братья твои, его и задели дуростью своей. Их, дураков, пожалеть надо, — плохо сделали. Ведь бога обидеть — это как малого ребенка обидеть твоего бы…