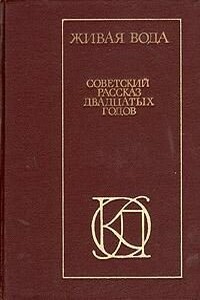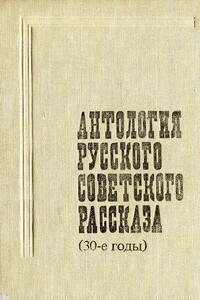Советский русский рассказ 20-х годов | страница 49
— Скажу я тебе, дружба, про французика одного, французского попа, — маленький такой попик, черный весь, как скворец, на головке — гуменце выстрижено, на носике — очки золотые, а ручонки — словно у девочки малы, и весь он — игрушка богова! Встретил я его в Почаевской лавре, лавра эта далеко отстоит — там!
Он махнул рукой куда-то на восток, в Индию, вытянул ноги поудобнее и продолжал, опираясь спиной о камни:
— Кругом — поляк живет, чужое место, не наша земля. Балагурю я с монахом одним, он говорит: «Людей надо наказывать чаще». А я посмеиваюсь: ведь коли правильно наказывать, так надо — всех, а тогда и время ни на что не хватит, и делать больше нечего — дери дером друг дружку, только и всей работы. Рассердился монах на меня — ты, говорит, дурак! И ушел. А попик этот в уголке сидел и вот подкатился ко мне и начал, — ах, какой! Я тебе, дружба, так скажу: он мне вроде Иван-Крестителя. Язык ему мешал, не все наши слова можно сказать чужим языком, ну — все-таки говорил он с большою душой. «Видел я, говорит, что вы — всё на вы со мною, да! — вы, говорит, не верите монаху, ох, говорит, это очень, хорошо; бог, говорит, не злодей людям, а сердечный друг, только с ним, по доброте его, так случилось: растаял он в слезной жизни нашей, как сахар в воде, а вода сорная, вода грязная, и не стало нам чуть его, не чуем, не слышим скуса божия в жизни нашей. А все-таки, он во всем мире пролит и в каждой душе живет чистейшей искрой, и надо, говорит, нам искать бога в человеке, собирать его во единый ком, а как соберется господь всех душ живых во всей силе своей, — тогда придет к нему сатана и скажет: велик ты, господи, и силен безмерно, не знал я этого — прости, пожалуйста! А теперь — не хочу больше бороться с тобой, возьми меня на службу себе».
Старик говорил напряженно, и на его темном лице странно сверкали расширенные зрачки.
— «И тогда наступит конец всякому непотребству и злу, и всякой земной сваре, и все люди возвратятся в бога своего, как реки в океан-море»…
Он захлебнулся словами, ударил по коленям своим и начал сиповато смеяться, радостно продолжая сквозь смех:
— Ну, так все это мне по сердцу пришлось, так светло на душе стало — и не знаю, что сказать французику. «Ваше, говорю, Христово подобие, можно тебя обнять?» Обнялись и — давай мы плакать оба, — ведь как плакали! Как малые ребята, родителей встретив после долгой разлуки. А оба — старые, у него щетинка-то вокруг гуменца тоже седая. Тут я ему и сказал: «Ты, говорю, мне, христоподобие, вместо Ивана Крестителя!» Ваше христоподобие зову его, а самому смешно: он — я те сказал — на скворца похож был. А монах этот, Виталий, все ругал его: «Вы, говорит, гвоздик!» Верно, он и на гвоздик был схож, — острый такой! Тебе, дружба милая, вся эта радость моя, конешно, непонятная, ты — грамотный, сам все знаешь, а я в ту пору слепой был, хожу — будто все вижу, а — ничего не понимаю, — где бог? А он мне сразу все и открыл, — сообрази, каково это было мне? Ведь я тебе речи его в краткости сказал, а мы с ним до свету беседу вели, он мне столько много говорил, что я — одно ядро помню, а скорлупку всю растерял…