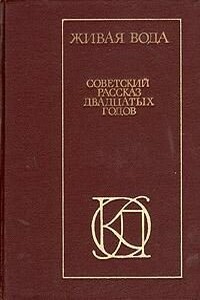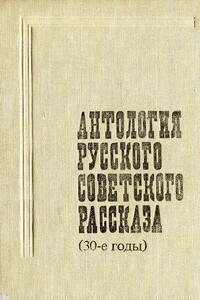Советский русский рассказ 20-х годов | страница 46
— А убийцы — как?
— Их — убивать! — решил Савелий. — Который убил, его тоже прикончить, тут же на месте, — не дури! Человек не комар, не муха, не хуже тебя, сволочь…
— А воры?
— Чудак, — откуда же воры, коли воровать нечего? Чего у меня украдешь? Лишнего — нет, значит, и зависти нет, и жадности нет. Откуда тут воры родятся? Вор — от избытку; он глядит: ой, как много! Ну, и цапнет чего-нибудь…
Было уже темно, ночь влилась в овраг. Трижды ухнула сова, старик выслушал ее жуткие крики и, улыбаясь, сказал:
— Недалеко тут живет, в дуплище. Иной раз застигнет ее солнышко, не успеет она спрятаться и торчит на свету. Я иду, язык показываю ей: что, дура? Ничего не зрит, молчит. Увидят ее мелкие птицы — беда ей!
Я спросил, как же он стал отшельником?
— Так и стал: ходил-ходил, потом остановился. Из-за Таши всё. Анцыфериха тут хитро сыграла — не допустила меня к ней после суда. «Я, говорит, всю правду знаю, и скажи мне спасибо, что в каторгу не попал, а дочери тебе не выдам». Дура, конечно. Повертелся я около нее, вижу — нет, ее не обойдешь! И — пошел. Был в Киеве и в Сибири был, там большие деньги заработал, вернулся в свои места. Анцыфериху на железной дороге колесами задавило, а Ташу она замуж выдала за фершала, в Курск. Я — в этот Курск, а фершал в Персию уехал, в Узун-город. Я в Царицын, а там на пароход, потом морем ехал в Узун — а Таша-то померла. Видел я этого фершала, — рыжеватый такой, красноносый, веселый. Оказался — пьяница. «Ты, говорит, может, есть отец ей?» — «Нет, говорю, куда мне! Просто я его в Сибири видел, отца-то». Не хотелось открываться перед ним, — чужой человек. Ну, прошел на Новый Афон, чуть не остался жить там — хорошее место! После вижу — нет, нехорошо! Море гремит, камни ворочает, абхазы ходят, место неровное, горы кругом, а ночи — такая чернота, будто тебя в смоле утопили. И — жара. Пришел сюда, да вот и живу — девятый год, не зря живу. Пришел, обстроился здесь, березу посадил; три года прожил — кленок посадил, потом — липу, видишь? Я, дружба, большой здесь утешитель людям, — вот приходи в воскресенье, погляди-ка, послушай!
Он почти не упоминал имени божия — третьего слова в устах людей, подобных ему. Я спросил: много он молится?
— Нет, не шибко много, — задумчиво ответил старик, закрыв голые свои глаза. — Сначала я здорово молился; бывало, часами стою на коленках, все крещусь. Руки у меня пилой намотаны, не устают, и спина тоже. Тыщу поклонов могу положить — не охну. А вот косточки на коленях — не терпят, ноют. Потом я вздумался: чего это я молюсь, о чем? Все у меня есть, люди меня уважают, а я — бога беспокою. У бога — свои дела, зачем мешать ему? От него даже отводить надо людские пустяки. Он, бог, про нас заботится, а мы о нем — нет! И я так думаю: господь живет для больших людей, где у него время для меня, мелкого дурака? Теперь я — просто так: не спится ночью, выйду из пещеры, сяду тут где-нибудь да, глядя в небеса господни, думаю: «Как он там?» Это, дружба, очень приятная занятия, до того, что и сказать нельзя, — дивен сон наяву! И — не устаешь, как на молитве. Ничего я у него не прошу, да и другим не советую, а когда, вижу, надо, говорю тому, другому: бога пожалей! Вот приходи-ка, погляди, какой я полезный и ему, и людям…