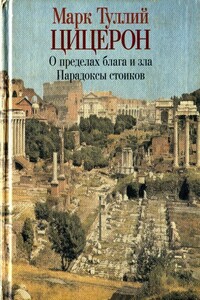Философские трактаты | страница 34
Во-вторых, следует видеть разницу между причиной и условием совершения действия. Ибо под причиной понимается не все то, что чему-то предшествовало, а только то, что и предшествовало и совершило то, чему было причиной. Иначе, иронически замечает Цицерон, пришлось бы признать, что путник, так как он был хорошо одет, явился причиной того, что разбойник его ограбил. Таким образом, Цицерон, расходясь не только со стоиками, но и с высоко ценимым им Аристотелем, считал в собственном смысле причинами только причины действующие, производящие (causae efficientes) — здесь он предвосхищает современную нам трактовку причинности. При этом он устанавливает одно важное для будущей философии различие — между тем, без чего что-то не может произойти (sine quo), и тем, отчего что-то должно произойти (quo), т. е. различие между условием и причиной, хорошо известное Цицерону из юридической практики. С учетом указанного различия Цицерон дает такое окончательное определение причины: «Причина — это то, что своим наличием необходимо производит (efficit) то, чему оно является причиной». Как видно из этого определения, Цицерон предполагает, что в любой причинно-следственной связи имеется элемент необходимости. Не противоречит ли это его учению о случайных причинах? Нисколько. Ведь из того, что причина необходима для следствия, вовсе не следует, что сама по себе причина является необходимой, т. е. изначально, извечно предопределенной: для известного класса следствий необходимы именно случайные причины. Поэтому Цицерон с полной убежденностью заявляет: даже допуская, что у всякого события есть свои «предшествующие причины», мы вовсе не обязаны принимать ни необходимость, ни судьбу.
Что же касается вопроса о свободе воли и человеческой активности, то, по мнению Цицерона, все попытки Хрисиппа увязать эти понятия с идеей судьбы оказались безуспешными. Хрисиппово опровержение «ленивого софизма» он считает вполне убедительным, хотя и слишком изощренным. Похоже, что вполне положительно Цицерон оценивает и ту часть учения Хрисиппа об «одобрениях», в которой тот вводит подразделение причин на «изначальные» и «ближайшие». Однако Цицерон считает, что все эти диалектические тонкости сами по себе не могут вывести Хрисиппа из лабиринта фатализма, и покуда Хрисипп настаивает на идее судьбы и на вытекающей из нее идее детерминированности человеческой воли внешними причинами, он не в состоянии объяснить ни свободы, ни активности человека. Аналогия воли с вращающимся цилиндром хороша, но она-то, судя по всему, и побуждает в первую очередь Цицерона обвинять Хрисиппа в непоследовательности: ведь если Хрисипп признает судьбу, то он должен остановиться на признании полной детерминированности движений воли внешними впечатлениями и исключить самоопределение води, но если он допускает спонтанное движение воли, а внешние впечатления считает только поводами, причем ничего не определяющими, этих движений, то он обязан отказаться от судьбы. В данном вопросе Хрисипп, согласно Цицерону, занимает неустойчивую позицию — позицию, как бы колеблющуюся между фатализмом или, как мы бы сказали, нецесситаризмом демокритовского типа и точкой зрения сторонников свободы воли; и хотя логика самого учения не позволяет Хрисиппу выйти за рамки фатализма, притягательная сила свободы заставляет его нарушать эту логику и отвергнуть если не судьбу, то, во всяком случае, необходимость.