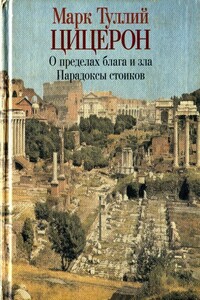Философские трактаты | страница 24
В трактате содержится много тонких мыслей Туллия, имеющих более частный характер. Но главное здесь — непримиримая и очень искусная борьба с суевериями. В этой борьбе Цицерон был не одинок. Ее вели, хотя и с других позиций, эпикурейцы. Цицерон понимает это и неоднократно указывает в диалоге на свою близость к ним в этом вопросе. Но полного единства между ними и Цицероном все-таки не было. Такой выдающийся их представитель, как римлянин Лукреций, считал, что суеверие, поработившее все народы, держится только на человеческой слабости (см.: «О природе вещей» I, 62—65). Цицерон в трактате «О дивинации» писал то же самое почти в тех же словах (см.: II, 148). Однако Лукреций вместе с суевериями предлагал освободиться и от всякой религии, он был последовательным атеистом. Цицерон из политических, а, может быть, отчасти и из своих мировоззренческих соображений оставлял место в обществе для религии. Он уверял, что с устранением суеверия не устраняется сама религия (II, 148) и что «красота мира и порядок, который царит в небесах, побуждают род человеческий признать существование некой вечной превосходной природы и поклониться ей» (Там же). Он думал, что признание религии должно сочетаться с познанием природы, а суеверие должно вырываться «со всеми его корнями» (II, 149). Многие так думали и после него, например писавший о нем Плутарх[19]. Но что осталось бы от государственной религии римлян, которую как политический институт считал себя обязанным защищать Цицерон, если бы ее освободить от суеверий. Ничего. Догадывался ли об этом Туллий. Думаю, что да. Но он утаил это.
В диалоге «О дивинации» Цицерон рассматривал и опровергал и такой вид суеверия, как вера в судьбу. Но специально этому вопросу он посвятил заключительный трактат данного цикла «О судьбе». Огромная теоретическая значимость этого трактата заставляет нас, несмотря на его небольшой объем, уделить ему особое внимание.
* * *
Трактат «О судьбе» (De fato), написанный Цицероном в 44 г. до н. э., спустя несколько месяцев после мартовских ид, дошел до нас в сильно сокращенном виде. Во всех сохранившихся списках отсутствуют начало и конец, в срединной части имеются две большие лакуны. Когда и при каких обстоятельствах были утрачены отсутствующие ныне части, точно установить невозможно. Кажется, еще Августин (354—430 гг.) знал этот трактат целиком[20], а в нынешнее свое состояние он был приведен, скорее всего, в средние века.