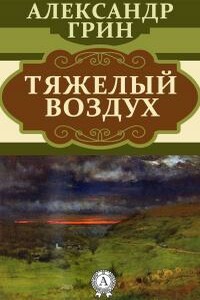Мой гарем | страница 30
— Брось, архитектор, зарапортовался, довольно, — кричал Владимиров, — оглянись лучше, как на тебя смотрит Зина.
Приглашали четвертую барышню. Тимофей наскоро откупоривал новые бутылки, подавал жареный миндаль, конфеты и фрукты и, уходя, плотнее затворял дверь. По кабинету волнами передвигался сигарный дым, и в волнах этих качались, таяли, становились призрачными опьяненные мужские и женские лица. Фрейлейн Роза, со светло-голубыми невинными глазами, густой шапкой пепельных волос и движениями балованного, но флегматичного ребенка, уже не приближалась к пианино, и все сидели общей и тесной группой на двух широких, соединенных под углом диванах. Было душно и глухо, и звук пропадал в тяжелых складках портьер, скрывавших двери и окна. И лица женщин смеялись все меньше, становились томными, упорствующими, подающими несбыточные надежды. Полуобнаженные горячие руки отстраняли объятия, а широко раскрытые холодные и чистые глаза сияли мольбой и угрозой вместе.
Леда
Играл оркестр неаполитанцев в малиновых атласных костюмах, суетились и бегали лакеи, хлопали пробки, и Кедрову, сидевшему за длинным столом среди знакомой артистической компании, казалось, что его путейская тужурка — так себе, одна декорация, и что он страшно широкий, талантливый и передовой человек. Ужинали на его счет, незаметно, между разговором, заняли у него рублей полтораста денег, посылали несколько раз шампанского дирижеру неаполитанцев, и все это делалось весело, размашисто и непринужденно. И было забавно смотреть, как в перерывах между музыкальными номерами дирижер выходил на край эстрады, улыбался, беспомощно разводил руками, потом брал у лакея бокал и медленно выпивал вино, повернувшись лицом к чествовавшему его столу.
Месяцев восемь Кедров строил в Сибири железнодорожную ветку, жил в глуши, не читал газет и теперь, вернувшись в Петербург, с наслаждением возобновил знакомства и увидал себя в кругу прошлогодних собутыльников и друзей. Все были в полном сборе: и знаменитый писатель Ариничев, и непризнанный философ Данчич, и неунывающий земец Брусницын, попросту — Брукс, и помешанный на Достоевском психиатр Гемба, с длинной гофрированной бородой, и милый юноша студент Володя Шубинский. Были также актеры, молодые адвокаты и фельетонисты, а вместе с ними их жены и подруги, эффектно одетые, красивые, как на подбор. Приподнятая декламация актеров, рискованные шутки фельетонистов, обрывки напряженно-тоскливой и страстной музыки, непрерывное журчание воды в аквариуме, а главное, то, что, обращаясь к Кедрову, компания называла его «наш меценат», опьяняли его больше вина. В довершение всего он был немножко влюблен в молодую женщину, сидевшую как раз напротив, жену философа Данчича, с которой он познакомился три часа тому назад. У нее были большие, блестящие глаза необыкновенного лиловою оттенка, белая гибкая шея и длинная, тяжело спадавшая на спину прическа, звали ее почему-то, вместо Елены, Ледой, и эта выдумка сегодня казалась Кедрову особенно оригинальной и тонкой. «Леда, — мысленно повторял он, — как это красиво — Леда».