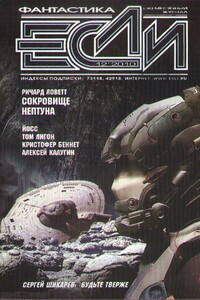Альманах «Крылья». Взмах одиннадцатый | страница 13
– Ну, обещали… (и в темноте было видно, как папа бессильно кратко развел руками). На прошлой еще…
(Папа работал в автомастерской, но с некоторых пор в некотором смысле бесплатно).
– Угу, ну да (и в темноте было видно, как мама бессильно ухмыльнулась этому очевидному и бесспорно полновесному факту).
(Мама работала медсестрой, но теперь она в некотором роде не работала, о чем часто шушукалась с папой, и тот недовольно качал головой и хлопал себя по бедру, как если бы вдруг раскусил злодея).
У мамы зазвонил телефон.
– Ой, ничего себе, прорвались. Кто тут? (Она нажала «вызов») Але? Елена Васильевна? Да. Да. А-а-а, ага, – говорила мама, вставая из-за стола и на ощупь, потихоньку выплывая в зал.
Через минуту она холодно пролетела мимо и сказала:
– Говорят, в ТЭС Счастьинскую попали. Васильевна. Теперь вообще почти по области света нет.
Она открыла окно. В чернильной ночи раскатывались выстрелы, белели зарницы. Папа начал:
– Вот гады, скоты!.. Вот они, как были – так и остались. Это же откуда все идет – с давних времен еще, укры, племена эти, как подавляли, так и подавляют. А нынешние еще верят, что они их предки. Да хоть и так – нация предателей: Мазепа, Петлюра… А зато какой национализм, какая плюющаяся гордость, какая слепая, тупая вера! Плохо жилось им, да где же?
– И кого же они предали? – закрывая окно, бросила мама.
– Да тебя, меня, Костю, всех нас. Я приехал в Луганск из-под Тулы, вслед за отцом, – и не думал никогда, что разделять нас придется, думал, что и украинцем проживу. Да тут уже терпеть нельзя. Разрывают нас, русских! Да ты как будто не согласна?
– Согласна. Но мне все равно, кто там да откуда. Я вот в Беловодске родилась, жила. А теперь для меня там ничего не осталось. Я люблю какой-то другой Беловодск, и все говорят будто про какую-то другую Украину и Россию. Никакого прежнего мира к западу от нас. Вообще никакого мира. Я знаю одно: что есть мой город, Луганск. Это самое родное и надежное. А с нами… как с разменной монетой.
– «Петя с Вовой делили апельсин…» это называется.
Костик вовсе не следил за всеми этими наскучившими, приевшимися спорами, но от папиного сравнения пахнуло таким душком математической задачи и ее глупой, натянутой, ходульной условностью, что он понял абсурд их положения вдруг и полностью. Он так устал от вечного пережевывания одного и того же, настолько чуждого ему, теоретического, что и не верилось, что взрослые вправду хотят этим заниматься. Костик думал, что если им не могут сделать свет, то что уж говорить о мире.