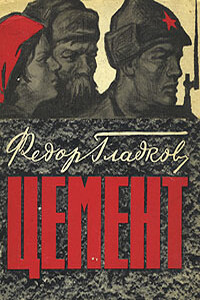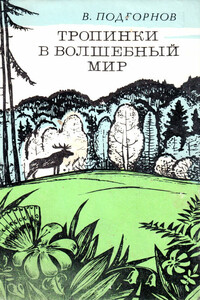Повесть о детстве | страница 82
— Жертва вечерняя… Мир живет одним праведником.
Блаженны праведницы, ибо они наследят землю.
И вдруг хозяйственно распорядился:
— Ну, нечего тут… тары да растабары… Ужинать надо.
Бабы, собирайте на стол!
X
Как старший в семье, отец подражал деду в обращении с братьями, с мамой, со мною. Он делал вид, что не замечает матери, как и меня, но кричал на нее, как на скотину:
— Настасья, принеси квасу! Проворней! Кому говорят?
А она хлопотала в чулане с бабушкой, или валила охапками солому на пол для топки на завтрашний день, или, прозябшая, подурневшая от мороза, приносила не одну пару ведер из колодца.
— Сейчас, Фомич… Матушка велит муки принести…
Он свирепо орал:
— Кому говорят!..
И когда она кротко и безгласно ставила кувшин на стол и рядом с ним жестяной ковш, он угрюмо командовал:
— Аль не знаешь, что налить надо?
Она дрожащими руками наливала в ковш квасу и от страха выплескивала его на стол.
А иногда, в часы обид и озлобления против деда или братьев, отец бил ее походя.
И ночью не раз слышал я, как он шептал ей виновато:
— Разве это я бью? Обида бьет. Моготы нет… Убежал бы на край света… Я — как батрак у отца-то! Хуже работника: слова не скажи. Скоро к барину в кабалу пошлет. Володимирыч-то правду говорит…
Мать всхлипывала и молчала.
— Разделиться бы, что ли… — тосковал он. — Аль на сторону… Отец раздела не даст. Поеду в извоз. Может, бог даст, перехвачу деньжонок… приторгую по дороге, как батюшка…
— Умру я, Фомич, — шептала мать, глотая слезы. — Всю себя до капли истратила. Всем угоди, всем поклонись, всем покорись… Чай, сердце-то у меня, как уголь, почернело.
— Терпи. Дай срок, весной на Волгу уйдем.
— Господи, помоги! Не оставь, пресвятая владычица, в лихой печали… Пожалей ты меня, Христа ради…
А утром я видел в ее глазах и в глазах отца затаенную надежду.
Отец любил читать вслух и поражал своим чтением Цветника, Пролога, Псалтыря, но читал с запинками и, пользуясь тем, что славянской речи не понимали, а слушали ее как что-то таинственно-мистическое, уродовал слова, пропускал трудные титлы. Как-то Володимирыч долго слушал его чтение, крякал, гмыкал, сердито шевелил усами и бачками и вдруг спросил:
— Погоди-ка, Вася. Ты чего это читаешь-то?
Отец опасливо взглянул на него исподлобья.
— Как это чего? Правило, яко не подобает к еретикам приобщение имети в молитвословии и ядении, в питии и любви.
— Не пойму я как-то ничего у тебя…
— Значит, не дано тебе.
— Эх, Вася, Вася! Всякое слово, ежели оно сказано от ума, должно быть понятно и бородачу и ребенку. В слове, Вася, — весь человек. А ведь ты читаешь слово-то божье в поучение людям. Как же я могу принять это поучение, ежели оно для меня — тарабара?